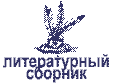| продолжение ГригорийПомеранц cобирание себя Лекция вторая МЕТАФОРИКА ДУХОВНОГО ОПЫТА | ||
|
|
||
|
оступиться. Я, размышляя над романом Достоевского, как-то выразился, что в нем как бы лестница, идущая из преисподней в рай. И на последней ступеньке в рай дьявол может подставить подножку, и человек падает вниз. А на последней ступеньке в ад ангел может протянуть руку, и человек спасется. Ни один изолированный опыт, ни одно изолированное переживание само по себе ничего не гарантирует. Оно нам что-то приоткрывает, но надо еще понять. И вот здесь, конечно, необходима встреча опыта с традицией и присматривание к тому, как люди этот опыт переживали. И к чему ведет ошибка в понимании этого опыта. В конце концов всякий человеческий опыт высших мгновений есть только некоторое подобие, некая метафора. Вернусь снова к тому, что я очень ярко помню, к опыту чего-то вроде личного свето-преставления. Я сейчас опишу его подробнее, Я увидел, что небо, как стеклянное, раскололось, и куски начали падать на землю. А потом однопалатница моей покойной первой жены сказала мне ободрительную фразу — дело тогда еще не решилось, лежала жена живой на операционном столе. И когда возникла опят надежда, то падение осколков прекратилось. И они повисли на ленточках бумаги. Во время войны стекла крест-накрест проклеивали ленточками бумаги, и из моего опыта выпала такая неожиданная метафорика, что небо оказалось проклеено, как стекло при бомбежке, ленточками бумаги, и куски неба повисли на них. Умом я в это поверить не мог, но я это видел. И после этого я очень много понял. Я понял, что выражение "небо с овчинку показалось" — это не шутка. Это какой-то древний человек с очень простым запасом опыта, испытав страшное горе, увидел, как небо сжалось, став с овчинку. А потом это уже повторялось как шутка, люди повторяли это, не понимая. В романе "Тихий Дон" есть такая фраза, что после смерти Аксиньи Григорий увидел черное солнце. Меня поразила сразу же эта фраза. Я думаю, что человек вроде Григория, так любивший Аксинью, мог увидеть черное солнце. Это не придуманное. И когда влюбленный, встречая глаза девушки, которые его потрясли, чувствует, что ему засаживают кинжал в грудь, то опять-таки он это переживает. Более того, он вполне способен тут упасть в обморок, если острие этого кинжала дойдет до сердца. То есть в очень многих случаях мы воспринимаем действительность метафорически. И опыт высших мгновений требует очень глубокой и серьезной интерпретации. К счастью, имеется такой анализ своего опыта у Даниила Андреева, человека, очень утонченного в этих восприятиях и имевшего самые различные переживания глубинных слоев. Он был человек вполне интеллигентный и проанализировал свой опыт. "Первая стадия, — пишет он, — заключается во мгновенном внутреннем акте. совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без всякой предварительной подготовки. Хотя, конечно, такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место. Содержанием акта является молниеносное, но захватывающее огромные полосы исторического времени, переживание, не расчлененное ни на какие понятия и не выразимое ни в каких словах, сути больших исторических феноменов. Формой же такого акта является насыщенная сверх меры динамическими кипящими образами минута или час — когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в темной и тихой комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури, вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющей — и в то же время исполняющей чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты личность раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются целые эпохи, целый, если так можно выразиться, метаисторический космос этих эпох с великими, борющимися в нем, началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет! Зрительный элемент включается в них, как, может быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим элементам, как, например. Океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Переживание это оказывает потрясающее действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит все, что находилось в круге сознания личности, что оно будет много лет питать собой душевный мир пережившего. Оно будет драгоценнейшим внутренним достоянием. Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется, допустимо назвать ее "метаисторическим озарением". Андреева в это нремя занимала больше всего судьба России, поэтому он говорит о метаисторическом, но с таким же успехом можно сознавать не только историю, а и другие вещи. Андреев оговаривает, что озарение всегда отрывочно. Из душевной глубины постепенно, годами поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но еще больше их остается н глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывшегося ему космоса метаистории. Эти-то образы и идеи становятся объектом второй стадии процесса. Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая. Она представляет собой некоторую цепь состояний, цепь, пронизывающую недели и месяцы, и проявляющуюся почти ежедневно. Это есть внутреннее созерцание, напряжённое вживание, сосредоточенное вглядывание, иногда радостное, иногда мучительное, в исторические образы, но не замкнутые в себе, а воспринимаемые в их слитности со второй, метаисторической реальностью, за ними стоящею. Выражение "вглядываться" я употребляю здесь условно, а под словом "образы" разумею не зрительные представления только, но представления синтетические, включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцание может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере явления иномирные в своей материальности. Ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, по обычно отделенные глухой стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия npoцессса отличается пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии возможно в известной мере направляющее действие личной воли — иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще как раз в наиболее плодотворные часы образы всплывают непроизвольно, излучая такую завораживающую силу и приоткрывая такой многопланный смысл, что часы созерцания превращаются в ослабленное подобие минут озарения. При известной творческой предрасположенности воспринимающего образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем, осью художественных произведений. И сколь мрачны или суровы ни были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждению, которое вызывает их созерцание. Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать вторую стадию процесса. Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и их общая концепция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены. Иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, заполнения остающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от внеличных и вне-рассудочных начал, более субъективную. Поэтому на третьей стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка. Вполне отделаться от этого почти невозможно. Эту третью стадию процесса вполне естественно назвать "мета-историческим осмыслением". Теперь попробуйте приложить эту концепцию к "Откровению" Иоанна Богослова. Там тоже, по-видимому, было яркое потрясающее отрывочное видение. Затем человек всматривался, повторял в своем уме, вглядывался и при этом их немного художественно достраивал. И наконец он в рамках своей философии это осмыслил. К этому можно добавить, что само исходное озарение тоже стихийно метафорическое. и смысл его не так просто раскрыть. Непосредственно для современников Иоанна Богослова это было откровением о судьбе Римской империи, в которой они жили, и о судьбе всего человечества, которое мыслилось живущим в этой ойкумене. Но много раз люди возвращаются к этому тексту. Есть там элементы, которые выходят далеко за рамки и метаисторического опыта, которые касаются каких-то глубин, подлежащих раскрытию в самом конце истории. Мне приходилось уже говорить о том, как я понимаю смысл апокалипсиса. Апокалипсис, угроза светопреставления — это не античный рок, это не увиденная неизбежность, это скорее предостережение, указание на грозную опасность, которой можно избежать, если достигнут будет духовный и нравственный сдвиг. Здесь есть какая-то аналогия с пророчеством Ионы, который грозил Ниневии, что она будет испепелена, а потом ниневийцы покаялись, и Бог простил их. Такое апокалиптическое видение, как у Иоанна Богослова, означает: вам должно преобразиться, иначе все рухнет. Тут здравый смысл отвечает: не могут же все люди преобразиться, так никогда не бывает. На это я, опираясь на опыт истории, должен сказать, что необязательно, чтобы все преобразились. Под влиянием проповедей Иоанна Богослова и других апостолов какой-то толчок преображения испытало небольшое меньшинство. Но этого меньшинства оказалось достаточно, чтобы влить новый дух в Римскую империю, и во всяком случае восточная Римская империя просуществовала еще полторы тысячи лет. А если западная рухнула, то она рухнула только физически, а не духовно. Духовно как католическая церковь она осталась и подчинила себе в конце концов варварские племена, разрушившие западную Римскую империю. Это все сделал духовный и нравственный сдвиг горстки людей. И я не думаю, что в настоящее время нужно, чтобы пять миллиардов людей вдруг преобразились. Достаточно, если возникнет сильное духом творческое меньшинство, которое сможет потянуть за собой остальных. Метафорика таких видений может быть самая различная, в соответствии с предыдущим опытом традиций духовидца. Он действительно видит эти образы, но само восприятие метафорично, и надо суметь увидеть дух за этой знаковой материей. Всякое приближение к проблеме вечного, к проблеме целого наталкивается на неадекватность наших слов, наших образов. Даже когда речь идет о сравнительно простой вещи, о предвидении исторического будущего, то сплошь и рядом человек, обладающий даром прозрения, не может точно описать предмета в пространстве и времени. Если предмет очень необычный — у него не возникает соответствующего образа. Нострадамус в одном из своих катренов написал: "Будут летать железные стрекозы". Я думаю, что он как-то заглянул в будущее и увидел самолеты, но он не мог понять, что это такое. Тем более принципиально невозможно описать то, что выходит за рамки человеческой культуры, человеческих слов. В сущности, все наше восприятие метафорично. Возьмем, например, цвет. Что это такое? Это реальность, которая существует независимо от людей? Ничего подобного, прибор, независимый от человека, зафиксирует только электромагнитные колебания разных длин волн, а восприятие этого как цвета — это уже генетически и культурно заложенная в человека традиционная метафора, причем при некоторых сдвигах дальтоник видит груши синими, так что это не безусловно. Тут есть и культурная определенность. У примитивных народов нет большого числа цветов. И даже в русском фольклоре остались следы этого: солнце красное, сирень синяя — потому что не было подходящих слов. Древние цвета — это белый, красный, черный. Причем все холодные цвета воспринимались как оттенки черного. Это метафора, определенная развитием культуры. Русские видят голубой цвет, а немцы не видят голубого, у них есть только синий. Русский язык усвоил оранжевый, то есть апельсиновый, усвоил сиреневый. Но ведь еще Тютчев писал: "Набресть на свежий дух синели или на светлую мечту". То есть еще во времена Тютчева русские поэты считали сирень синей. Слово "сиреневый" поздно вошло в русский язык из французского. Так же культурно окрашены и образы, которые позволяют как-то передавать религиозный опыт. Я думаю, что слово "Бог" связано с опытом видений, в которых переживший видит какие-то сияющие существа. Брахман связан с опытом созерцания чистого света. Дао — китайский опыт священного пути — связан, по-видимому, с опытом подсвеченной физической реальности. В сущности, все равно, как сказать, что есть непостижимая тайна бытия, которую я иногда могу почувствовать внутри себя и, почувствовав, испытать блаженство причастности к этому сияющему целому. И эту тайну я называю Богом. Или сказать, что есть Бог, но он непостижим, он превосходит всякое мое разумение о нем и т.д. Это просто разные способы описания одного и того же. Логически корректнее первая форма, а потребность в образе, потребность в иконе требует скорее второго. Хотя каждый способ связан с некоторыми опасностями. Например, если мы назвали эту сияющую тайну бытия Богом, приравняли его как имя существительное к предметам, возникает логическая возможность поставить рядом другой предмет, то есть расколоть действительность на Бога и дьявола, на добро и зло и т.д. Между тем глубокое религиозное воззрение отрицает это раздвоение. Оно признает, что на глубине бытия зла нет, там есть лишь чистый свет. Но как только мы его назвали, мы формой своего высказывания создали логическую, грамматическую возможность противопоставить ему что-то другое. Вот это Бог, а вот это уже не Бог. Мы привыкли, что имя существительное описывает предмет, стоящий рядом с другими предметами. Чтобы преодолеть эту привычку, возникли формы описания без названия. Например, в одном из древнейших индийских текстов при подступе к проблеме целого мудрец все время говорит: не это, не это... Ничего больше сказать он не может. То есть это можно пережить,- но это нельзя назвать. В другом тексте одной из Упанишад отец, обучающий своего сына, говорит ему: "То — высочайшее, то — всеобъемлющее, то — сияющее и то — это ты". То есть ты не можешь это увидеть, назвать, но можешь ощутить это в себе самом. Как в известном выражении, что царство Божие внутри нас. Есть нечто, но не пытайся назвать это, пока ты не пережил. Прежде всего переживи. Не профанируй вечность определениями. Ибо определения без переживания становятся призраками, уводят в сторону. Последовательно такую негативную манеру описания пытался провести ранний буддизм. В Бенаресской проповеди Будда проповедует:"Есть, о отшельники, нечто неставшее, нерожденное, несотворенное. Ибо если бы не было неставшего, нерожденного, несотворенного, — где было бы спасение от страдания в мире ставшего, рожденного, сотворенного?" То есть он ни разу положительного ничего не описывает. Это логически безупречно, никакой атеизм здесь не придерется. Никаких существ, о которых можно сказать, что этих существ нет, он не вводит. Но это требует привычки к высоким абстракциям. И народная религия, та же буддийская, не смогла на этом остановиться. Она все-таки ввела какие-то фигуры, на которых можно сосредоточиться, чтобы приблизиться к высшей тайне, не передающейся никаким словом, никаким знаком. Иногда это метафоры высшей реальности, а иногда это след встречи с душами святых, которые как-то по-видимому сохраняют свое существование после физической смерти. И это можно проследить во всех религиях. В основе этого лежат моменты встреч — иногда в сне, иногда почти наяву — с какими-то умершими близкими. Такие встречи со святыми можно представить как духовную реальность. Что же касается прямых встреч с Богом, то они всегда метафоричны, ибо Бога не видел никто и никогда. В каждой религии огромную роль играют обоженные люди, то есть люди, вместившие в себя высшую реальность. Созерцая этих людей, сосредоточиваясь на их образе, можно легче подойти к этой реальности, которую полностью, я думаю, из здесь присутствующих никому не удалось пережить. Тем не менее без нее мы тоже не можем жить. И вот какие-то духовные встречи с обоженными людьми и с иконами, передающими жизнь этих существ, оказываются необходимыми для духовной жизни. С поразительной силой эту потребность в образе обоженного человека выразил Достоевский в своем "Символе веры". Приблизительно это так звучит: "Если бы как-нибудь оказалось, предполагая невозможное возможным, что Христос вне истины и истина вне Христа, то я бы предпочел оставаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа". Сравним с этим любопытное по резкости выражение одного современного буддиста. Он говорил, что наследие буддизма можно разделить на две неравные части. Во-первых, тот факт, что Гаутама Будда испытал просветление. Во-вторых, все остальное. Причем с точки зрения дзэн важно первое, а все наследие имеет второстепенное значение. Для Сибаямы, который так говорил, все решает факт просветления, который дает ему надежду, что и он может иметь просветление. Для Достоевского факты не важны. Однако можно найти и в христианстве утверждения, подчеркивающие важность фактов. В особенности подчеркивается важность воскресения. "Если Христос не воскрес, — говорил Павел,— то вера наша тщетна." Любопытно, что у Достоевского в "Символе веры" вопрос о воскресении совершенно отсутствует. Он вынесен за скобки. То есть хотя бы Христос и не воскрес — это не важно. Важна личность Христа. Личность Христа настолько вызывает любовь, что этого одного достаточно для углубления и торжества духа во внутреннем мире Достоевского. Противоположная точка зрения с установкой на факт, мне кажется, принадлежит к другому тину сознания и восприятия. Я не берусь судить, насколько выше или ниже одно или другое, но это разные типы, и в этом выражается в значительной степени дух культуры. Мне кажется, что при всей исключительности формулы Достоевского она более, чем что-либо другое, выразила личностный характер христианской европейской культуры. Упор на личность был уже в первых христианских текстах. "Сказано древним, а я говорю вам", — это формула, в которой очень ярко выражено личностное мышление, представление о личности как о высшем Слове. Именно личность Христа есть высшее Слово христианства, а не те или другие слова. Я не хочу сказать, что на Востоке вовсе нет личностного начала. Оно просто меньше выражено, менее подчеркнуто. Будда несомненно обладал могучей личностью, наложившей отпечаток на ряд великих стран Азии. Но в буддизме личность меньше подчеркнута, чем в христианстве. И это сыграло свою роль во всем дальнейшем развитии культуры. В результате возникают разные образы, разные словесные иконы. Догмы я понимаю как словесные иконы. Я к ним отношусь очень серьезно, так же, как и к иконам. Но для меня несколько нелеп вопрос, какая икона истиннее: Владимирская или Спас? Они обе истинны. Ибо иконы, написанные красками, или созданные из слов — это вспомогательные средства, чтобы помочь нам сосредоточиться на духе истины. Истина же в полном объеме может быть только пережита. Центральная задача любой великой религии — это преображение, обожение личности. Слово "обожение" входит в православную традицию. Но любопытно, что оно настолько малоизвестно у нас, что каждый раз, когда мне приходилось об этом писать, мне вставляли вторую букву "Ж". В этой ошибке может быть своя сермяжная правда, это человек, обожженный огнем вечности... Примерно это говорил Серафим Саровский Мотовилову, когда тот его спрашивал, в чем цель христианина. Серафим отвечал ему: "В стяжании Святого Духа . Но человек, стяжавший Святой Дух — это обоженный человек, преображенный человек, вступивший в устойчивый контакт с тем источником жизни, который всех нас породил. Это не значит, что такой человек стал Богом. Правильное понимание хорошо выражено .в одном афоризме Шанкары: "Капля тождественна океану, но океан не тождественен капле". Человек может стать каплей, нераздельной от океана, но, конечно, весь океан в него не вместится. И эту цель по-разному выражают разные традиции, но цель одна и та же. Например, в индийской формуле "Тат Твам аси" — "То ты еси" или "Ты — это то" выражается тождество личности Сверхличностному началу. Но вдумаемся в догматическое понимание второй ипостаси. Сын единосущ Отцу (тождество), от века пребывал в недрах отчих, и две природы, человеческая и божественная, соединены в нем неслиянно и нераздельно. Та же идея выражена. Только в историческом христианстве это тождество приписывается лишь одному существу — Христу. А в эзотерической традиции индуизма тоже не каждому, но предполагается, что этого уровня иногда могут достичь наиболее мощные души. Сам Христос никогда не говорил, что его уровня нельзя достигнуть. Наоборот, он говорил: "Будьте подобны мне, как я подобен Отцу моему". Таким образом, задача теозиса, обожения — вполне ортодоксальна, но историческая церковь ее боялась, потому что боялась гордыни человека, который слишком много вкусил и мог, как Люцифер, вообразить, что он равен Богу. Обе тенденции обладают своими достоинствами и недостатками. В частности, церковная точка зрения фиксировала тождество с творящим началом только за одним человеком, затушевывая задачу суметь узнать обоженную личность, когда она нереспектабельна, когда она была такой, как Иисус, которого вели на казнь, когда она не была еще написана на иконах, когда крест еще был виселицей, а не знаком, которым себя украшают.
*) Текст лекции напечатан по изданию Григорий Померанц. Собирание себя. Москва. ЛИА "ДОК" 1993 niw. 24.06.01 22:31:25 +0400 |
||