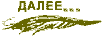| Дмитрий Псурцев Волшебное зеркало (очерк поэзии Николая Тряпкина (1918-1999)) ч.3 | ||
|
Как видно, "песенность" стиха (в широком смысле слова) нередко подчеркивается не только ритмом, размером, но и структурой повтора, в том числе повторами не только отдельных строк, но и целых "куплетов". В трогательном позднем "Романсе" (1981) в первом и последнем четверостишии рефреном звучит: "Ах, закроемся бедными шторами / И примолкнем на десять минут." В стихотворении-заклинании "Ворожу свою жизнь" (1982) структура повтора еще сложнее, развернутее: "ВОРОЖУ СВОЮ
ЖИЗНЬ... Не устаешь удивляться, насколько разнообразны песенные мотивы у Николая Тряпкина: "За полночь беседа
шла, шла, шла - Я корчагу маку дам, дам,
дам - (1968) Это не "музыкально заумный" словесный авангард (по типу знаменитого хлебниковского "О лебедиво! О озари!"), а как бы имитация той исконной фольклорной песенной формы, где слова употребляются в простом значении и поется о внешне простом, сверхбанальном предмете (например, о лучине – "Лучинушка"), – но выражаемое музыкой слов и музыкой пенья гораздо богаче буквального плана – и владеющее человеком настроение передается тем сильнее и тоньше, чем проще, примитивнее этот буквальный план. А вот иная "песня" – частушка, причем городская (1969): "ПЕСНЯ
СБОРЩИКОВ ПОСУДЫ Это современный городской фольклор в исполнении поэта-"деревенщика" – отсюда и лошадка; однако далеко не так все просто в незатейливой на первый взгляд песенке; здесь есть и горечь, и ерничество, потому что пресловутая лошадка – метафора. Она, лошадка, везет не только посуду, она еще "везет" и груз не признанной в официальных массолитовских инстанциях поэзии, поэзии, которой что остается от отчаяния? – пить, сдавать посуду и – чтоб с тоски не чахнуть – веселиться! Черный юмор... Вообще, при осмыслении категории "песенности", важно иметь в виду не только структуру, но и смысл, философию, мироощущение, данные в "песенном" облике. "Песенный" лад, предстающий в необычайном разнообразии стилистики и жанров, от стилизаций до глубоко авторского и современного, тем не менее также "естественно-песенного" по ощущению, несет огромное разнообразие и богатство содержания. Чтобы представить этот смысловой диапазон, стоит лишь сравнить раннее бесхитростное, милое, фольклорологическое "Подражание песне" (1942) или "Что ж ты ива, что ж ты ивушка!" (1966) – со "Скрипом моей колыбели" (1966) (где налицо попытка связать собой времена, нащупать экзистенцию во врйменном), или с страстными, кровью сердца и желчью написанными "Стенаниями у развалин Сиона" периода загнивания "развитого социализма". В этом последнем замечательном стихотворении русская фольклорная нота и традиции русской поэзии сливаются со струей из ветхозаветного источника – давая современную поэзию высочайшего накала. Хотя и сказано, что "живущий несравним", какие-то сравнения неизбежны, и даже необходимы для характеризации явлений. Конечно же, на память приходит другой художник этого времени, тоже народных корней – Николай Рубцов, чье творчество также проникнуто некоей "песенностью". "Песенность" Рубцова, пожалуй, задушевнее, интимнее, – но и "однотоннее". Тряпкин разнообразнее, пестрее, наряднее, фактурнее. Если сравнить голос Рубцова с гитарой романсового аккомпанемента, то тряпкинский голос уместно было бы сравнить с целым оркестром русских народных инструментов во всех его диапазонах, от тихой задушевности до веселья, до буйной плясовой. Рубцов поет где-то в компании, Тряпкин – на подмостках. Авторское начало у Рубцова – одно, это он, Николай Рубцов, в его непосредственной лиричности. У Тряпкина же авторское представлено как бы разными, многоликими "я", проецирующимися не только из сугубо внутреннего мира, но и извне, из мира народных переживаний и чаяний, открытого всем ветрам истории, в том числе и ветрам от лукавого... В мире Тряпкина лирика уживается с эпосом, или во всяком случае с попыткой такового. "Свет ты мой, робкий, таинственный свет, / Нет тебе слов и названия нет. / Звуки умолкли и стихли кусты. / Солнце в дыму у закатной черты." – скорее чистая лирика. Но "Скрип моей колыбели", или "Встреча", и многие другие стихи – это уже, несомненно, попытка эпоса, хотя и проникнутого непосредственным лирическим чувством. Пожалуй, как раз этой слитной лирико-эпической нотой, окрашенной к тому же нередко в исторические и философско-метафизические тона, и обогатил Николай Тряпкин современную русскую поэзию. Этой ноты, вернее, ее эпической части, очень не хватает нам сегодня, несмотря на изощренность техники многих стихотворцев. Но конечно, это связано и с объективными причинами: индивидуализм ощущения в нашем сознании отвоевывает все большее пространство у коллективности; между тем как народ русский (что бы под этим ни понимали) все более утрачивает черты "патриархальности", упраздняя тем самым и должность своего "певца", "Гомера". Или Баяна "Слова о полку", ведь именно Баяном ощущает себя поэт, когда пишет: "Заклинаю строку. И в душе уголек раздуваю. / И на струны свои эти пальцы свои возлагаю..." Есть также во многих "песнях" Тряпкина очень своеобразное, мало у кого сейчас находимое, торжественное начало, которое в отличие, скажем, от одического начала Державина правильнее всего было бы определить как гимновое. Сильнее всего проступает оно в произведениях о силах природы, о месте человека в природе, в мироздании. Вот эта гимновость, окрашенная в тона радостные, или в тона тревожно-напряженные, но неизменно торжественные, освящающие своей торжественностью каждый миг бытия, – еще одно достижение поэта, еще один важный вклад в современную русскую поэзию: "Никогда я бродить не
устану "Годы промчатся, как
соколы смелые, "А в наших долинах
курчавится хмель, "И земля колотилась,
как в начале творенья, А над миром сияли
полуночные горы Подчеркну еще раз, что авторское начало у Тряпкина существует в противоречивом единстве именно со своеобразной "коллективностью" поэтического мироощущения. При ярко выраженном "я" – личностном, авторском начале стихов, свойственном современной русской позии со времен первых ее творцов допушкинского периода, – в стихах Тряпкина зримо и незримо присутствует еще и "мы". Это тряпкинское "мы" – особенное, оно звучит не от лица поколения (как, например, у поэтов-фронтовиков), а от лица вымирающей общности, крестьянской общины, состоящей из носителей патриархально-коллективного сознания. Певец поёт, и в этом смысле он автор своих песен; но и певцом поет, или поют. И в этом смысле он, на первый взгляд, умалившись как авторская личность, на деле возрастает, ибо выражает неизмеримо большее чем он сам – душу своего народа. Горькое, отчаянное и гордое сознание, что целый мир, величественный, неповторимый – и обреченно-неприкаянный, – уходит с его песнями, овладевает поэтом:
Песни мои – это "Тихий
Дон",
Ай вы, гусли мои, ай вы,
гуси мои, То ли в пляске луга, то
ли бровь дорога, – Ах ты, песня моя! Ах ты,
Пресня моя!
3. "И буду вновь стучаться в двери / К земному смыслу моему." В 1970 г. в стихотворении "Стансы" Н. Тряпкин пишет: "1. Стремление постичь смысл бытия, опознаться в истории и во Вселенной, найти в ней место – свое и своего народа – владеет тряпкинской музой не менее сильно, чем желание петь. И, как это свойственно русскому мироощущению, сложные, философские вопросы, волнующие разум, прежде всего пропускаются через сердце – и потом уж ложатся на музыкальный лад стиха. Слова "дума" или "думка", часто утребляемые поэтом – не случайны, они, собственно, и означают мысль сердечную, мысль, переходящую в чувство. "Земляное" чувство Тряпкина тесно связано с чувством историческим. История и современность идут у поэта в едином потоке: "Здесь прадед Святогор в скрижалях не старееет, / Зато и сам Христос не спорит с новизной. / И на лепных печах, ровесницах Кощея, / Колхозный календарь читает Домовой." ("Пижма", 1946). Или: "И запоет веретено / Из-под скворечного радара." ("И закопается изба...", 1970). Или: "А мимо шли угрюмые, как Вии, / Скребучие колонны тягачей" ("Дорога", 1979). История современна ("Только знаю – парень ты без страха. / И давай – скажи без дураков: / Сколько весит шапка Мономаха / И во сколько сечен ты кнутов?" – так по-свойски, чуть ли не как к соседу, обращается поэт к Григорию Отрепьеву ("Стихи о Гришке Отрепьеве", 1966). Современность же, напротив – исторична, причем касается это не только событий народной жизни, личная судьба естественно вплетается в этот исторический узор. Вот строки из стихотворения 1971 г., воспоминание военных лет: "Уходила машина к востоку, / Уносила меня из-под пуль. / А над нами высоко-высоко / Проплывал чернокрылый патруль. // Уходил я под черное небо, / Никому ничего не суля. / И пред ликом Бориса и Глеба / На колени бросалась земля". Частная жизнь людей – также вплетена в некий узор, больший чем они сами: "И все грустные наши свидания, / И все речи твои и мои / Зацветут в наших снах, как предания, / Запоют, как весной соловьи" (1981) ("Предания" – часть истории, весенняя песнь соловья – часть вечной природы). Лирическое есть вместе эпическое. В таких стихах, как "Пижма" (1946), "Исцеление Муромца" (1958), "Лесные загривки... (1961), "Забытые вехи, заглохшие дали..." (1965), "За пылью ханского набега" (1965), "Скрип моей колыбели" (1966), "Степан" (1966), "Стихи о Гришке Отрепьеве" (1966), "Как у тех у ворот столько всяких бород" (1966), "Как сегодня над степью донецкой..." (1966), "Савелий Пижемский" (1966), "Девки бродят по вечерним скверам" (1967), "За церковкой старинной" (1968), "Что за купчики проезжали" (1968), "Притча о Ваньке-однолишнике" (1968), "Песня" (1970), "И снова дни, и снова годы..." (1971), "Не ведут пути окольные..." (1971), "В моем селе устроили музей" (1971), "Днем и ночью, снова днем и ночью..." (1971), "Песнь о хождении в край Палестинский" (1959 – 1973), "Старинные песни" (1973), "Не поляки, не свеи, не фрязи..." (1973), "Русь" (1973), "Предание" (1973), "Триптих" (1977), "Черная, заполярная..." (1978), "Среди лихой всемирной склоки..." (1982), "Ода к России" (1982) – и многих, многих других – напряженные думы о прошлом и настоящем России сплавлены воедино. Поэт нередко спрашивает себя и своих современников, так ли мы поступаем, выдерживают ли наши поступки суд совести. И возникает, например, вот такая “Песня” (1972): "Ах ты, свет,
друг сосед, старичок пригожий! Прошумели
деньки, пронеслись годочки. Ах ты, сад, ты
мой сад!.. Эх ты, мать честная! Похитрил,
помудрил, покрутился вволю… Ах ты, дед
Архимед! Человечек божий! Сколько знал,
подписал протоколов грозных? Сколько всяких
дружков за столом прославил? Погулял,
поскакал… Эх ты, мать честная! Прошумели
деньки, пронеслись годочки. И солидно
кряхтишь, и глядишь достойно…
|
||