|
|
ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ
Вероятно, у каждого человека есть на
земле тайное и любимое пространство,
которое он редко навещает, но помнит
всегда и часто видит во во сне. Человек
живет дома, на родине, там, где ему
следует жить; занимается своим делом,
устает, и ночью, перед тем, как заснуть,
улыбается в темноте и думает: "Сейчас
это невозможно, но когда-нибудь я снова
поеду туда..."
Так я думаю о Грузии, и по ночам мне
снится грузинская речь. Соблазн чужого и
милого языка так увлекает, так дразнит
немые губы, но как примирить в
славянской гортани бурное несогласие
согласных звуков и издать тот глубокий
клекот, который все нарастает в горле,
пока не станет пением.
Мне кажется, никто не живет в такой
близости пения, как грузины. Между
весельем и пением, печалью и пением,
любовью и пением вовсе нет промежутка,
Если грузин не поет сейчас, то только
потому, что собирается петь через минуту.
Однажды осенью в Кахетии мы сбились с
дороги и спросили у старого крестьянина,
куда идти. Он показал на свой дом и
строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор,
где уже сушилась чурчхела, а на ветках
айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же,
под темным небом, хозяйка и две ее дочери
ловко накрыли стол.
Сбор винограда только начинался, но
квеври — остроконечные, зарытые в землю
кувшины—уже были полны юного, еще не
перебродившего вина, которое пьется
легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели
его отведать, а уже все пели за столом во
много голосов, и каждый голос знал свое
место, держался нужной высоты. В этом
пении не было беспорядка, строгая,
неведомая мне дисциплина управляла его
многоголосьем.
Мне показалось, что долгожданная тайна
языка наконец открылась мне, и я поняла
прекрасный смысл этой песни: в ней была
доброта, много любви, немного печали,
нежная благодарность земле,
воспоминание и надежда, а также все
остальное, что может быть нужно человеку
в такую счастливую и лунную ночь.
 ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
(К 80-летию со дня рождения Галактиона
Табидзе.)
О друзья, лишь поэзия — прежде, чем вы,
прежде времени, прежде меня самого,
прежде первой любви, прежде первой травы,
первого снега и прежде всего.
Так — приблизительно так, ведь это
всего лишь перевод—сказал он в ту
прекрасную пору жизни, когда душа
художника испытывает молодость и
зрелость как одно состояние, пользуется
преимуществами двух возрастов как
единым благом: равновесием между
трепетом и дисциплиной, вдохновением и
мастерством. В мире свершились великие
перемены, настоящее время ощущалось не
как длительность, а как порыв ветра на
углу между прошлым и будущим. Энергия
этого ветра развевала знамена, холодила
щеки, предопределяла суть и форму стихов.
Он был возбужден, зачарован. Он ликовал.
К этому времени он пережил и написал
многое.
|
Светает! И огненный шар
раскаленный
встает из-за моря...
Скорее — знамена!
Возжаждала воли душа,
и раннею ранью, отвесной тропою,
раненой ланью спеша,
летит к водопою...
Терпеть ей осталось
немного.
Скорее—знамена!
Слава тебе, муку
принявший
и павший в сражении витязь!
Клич твой над нами витает:
— Идите за мною, за мною!
Светает!
Сомкнитесь,
сомкнитесь, сомкнитесь!
Знамена,
знамена...
Скорее — знамена!
(1917)
|
|
Еще в двенадцатом году было написано и
с тех пор пребывает в классике
грузинской поэзии стихотворение «Я и
ночь». «В классике» — звучит
величественно и отчужденно, словно вне
нас, в отторжением бессмертии, в
торжественном «нигде», так звучит, а
значит — именно «везде», в достоверной
материи пространства, в живой плоти
людей. Ночь—время и место поэтического
действия, предмет созерцания и сама
соглядатай, ночь—образ мироздания,
вплотную подведенный к зрению и слуху. Я—и
ночь, я—и мерцающая Вселенная, и
неутолимая мука, творящаяся между нами,
— суть моего ремесла, от которого нет
отдыха и защиты. Можно сказать так, но
это совсем не похоже на волшебство,
ускользающее от иноязыкого
исследователя этого стихотворения.
Попробую сказать по-другому:
|
Только ночь — очевидец
невидимой муки моей.
И мое тайнословье—
всеведущей — ведомо ей.
|
|
Почти точно, но какая пустая бездна
несоответствия вмещается в это «почти»!
Но он сказал: «Я и ночь», раз навсегда
присвоив ночь себе и предав себя ей,
станемте искать его в ночи, павшей на
тбилисские улицы, дворы и закоулки.
В пятнадцатом году — «Мери». Бедная,
счастливая, неверная, прекрасная Мери!
Все уста, открытые для грузинской речи,
вовеки будут повторять ее имя, и все
потому, что с другим, с другим венчалась
она в ненастную ночь, не оставив поэту
никакого утешения, кроме его
собственных стихов, да Шекспира, который
один мог соответствовать этой скорби.
Ночь, Мери, Знамена. Ранящий мир, любовь,
события истории воспринимаются и
воспроизводятся им с равным пристрастием сердца, единственным
ведомым ему способом.
|
Наши души белеют белее, чем снег.
Занимается день у окна моего.
И приходит
поэзия — прежде, чем свет,
прежде Свети-Цховели
и прежде всего.
|
|
.
Так написал он, когда был еще молод и
уже достаточно многоопытен, чтобы
сформулировать свою главную страсть и
доблесть и вынести ее в заглавие
личности, своей судьбы, драгоценных для
Грузии и общей культуры людей. Нет ли в
этой формуле профессиональной
замкнутости, усеченности? Видимо, нет.
Ведь, когда он писал это, его звали
Галактион Табидзе, а вскоре стали звать
и теперь зовут Галактион, и только,
потому что на его земле его имя не
требует уточнения, он—единственный. И я
счастлива, что неисчислимо много раз я
видела, как действует это имя на самых
разных жителей Грузии, каким выражением
света и многознания отзываются их лица
на заветный пароль этого имени.
Счастлива, что вообще на свете бывает
такая любовь всех, действительно всех
людей к своему поэту, к своей поэзии.
Только об этой любви и хотела я повести
речь, чтобы вовлечь, заманить в нее новых
пленников, как меня когда-то вовлекли и
заманили добрые люди— а потом уже сам
Галактион, когда душа была возделана,
готова и открыта для любви. Все мы знаем,
что многие творения великих грузинских
поэтов блестяще переводились на русский
язык, но это не вполне относится к
Галактиону Табидзе, чья хрупкая и
прихотливая музыка легко разрушается
даже от бережного прикосновения, — в чем
тут дело, не берусь судить. Иногда
кажется, что сами стихи его одушевленно
упорствуют в непреклонном желании
остаться в естественной и
неприкосновенной гармонии родного
языка, не хотят нести неизбежного убытка.
Пристальное чтение станет легче и
благодатней для нас, если мы предпошлем
ему предысторию заведомой нежности к
поэту, к его мятежному и сложному нраву,
к его обширному, не простому,
многообразному творчеству, столь
дорогому для тех, кто говорит с ним на
одном языке. А уж в этом надо поверить им
на слово.
Так я поверила Вам, батоно Сандро,
старый кахетинский крестьянин, чьи руки
можно читать, как книгу о щедрой земле, о
долгом труде. Спасибо Вам, что Вы позвали
нас в дом лишь за ту заслугу, что мы были
путники, бредшие мимо, что луна вставала
над виноградником, что стихи Галактиона,
сложные для некоторых специально ученых
людей, для Вас были вовсе просты.
Вы, пекари из райской преисподней, где
всю ночь сотворяется хлеб, мне жаль, что
мой перевод «Мери» много несовершенней
горячего хлеба, вознаградившего меня за
этот труд.
Вы, несравненный Ладо Гудиашвили, как я
люблю Ваш дом—я только в последний раз
заметила, как он красив сам по себе,
прежде я все не замечала, что вообще есть
дом,—все смотрела, как Вы похаживаете
возле Ваших дивных полотен, застенчиво
объявляя их названия и смысл, ободряя
родительским взором соцветья и
созвездья красок. Ваша память и Ваше
искусство многое знают о Галактионе.
А Вас мне не сыскать, ночной сторож, мы
грелись возле Вашего костра. Вы не раз
видели Галактиона, он бродил по этим
улицам, ему было легко и просто говорить—Вы
сказали: «Говорить со мной, с таким, как я».
Таких, как Вы, я не встречала больше, но и
другие люди рассказывали похожие
истории...
И вот, всех упомянутых и всех
неупомянутых людей я поздравляю с
лучшей радостью, с днем рождения
великого поэта, чья жизнь все будет длиться и
расти, и смерти его не останется вовсе —
останутся рождение и стихи.
|
Что же, город мой милый, на ласку ты
скуп?
Лишь последнего жду я венка
твоего.
И уже заклинанья срываются с
губ:
Жизнь. И Смерть. И Поэзия—прежде всего.
|
|
 ОТРЫВОК
ОТРЫВОК Осенью минувшего года я впервые была в
том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет
Леонидзе. Город, любовно затверженный
мной наизусть, но преображенный,
искаженный их отсутствием, был мне нов и
неведом. Как изменился вид на Метехи!
Но платаны на проспекте Руставели —
розовели в честь предстоящей зимы!
Женщина, изогнувшись, освобождала окно
от штор и допускала солнце к обилию
цветущих холстов, к чрезмерной
зрелости желтых роз в просторных
сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно
сломанный в силуэте, ненаглядно
красивый, шел Ладо Гудиашвили, искоса
общаясь со своими творениями. Нежные,
причудливые, совершенные в прелести или
заданном уродстве, они взывали к нему со
стен, толпились и клубились вокруг, но
все же подлежали его власти, и он с
неловкостью объяснял простой смысл их
доброго значения. Чудеса продолжались, и
в их обширном воздухе длилась жизнь
прежних, прекрасных участников. Где-то
под потолком еще витало дивное
бормотание любимого переделкинского
гостя — восемь лет прошло с тех пор, как им любовались
здесь в последний раз.
Душа моя возвращалась из горя, как из
долгого странствия, и разве когда-нибудь
отступится она от Метехи?
Тбилиси — назывался этот город, и —
что мне было делать? — я вновь любила его,
как ни одно другое место земли. По поводу
любого места земли слух мой дольше
страдает от любви, чем зрение. Память
зрачков уже освобождается от лиц и
пейзажей, а чужой язык еще живет во мне,
бурно творится сам по себе, терзая меня
близостью и недоступностью. Ни с одной
чужой речью не общалась я так долго и
близко, как с грузинской. Она вплотную
обступала меня говором и пеньем, искушая
неловкую славянскую гортань трудиться
до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести
стычку и несогласие согласных звуков и
потом отдохнуть в привольи долгого «и».
Как мучалась я из-за этой, не данной мне,
музыки—мне не было спасения в
замкнутости, потому что вода, льющаяся
из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.
Но наступала таинственная ночь труда,
и эта речь, еще недавно бывшая сильнее
меня, лежала передо мной бездыханным
подстрочником— бедная, беззащитная и
нагая. Теперь от одной меня зависели ее
жизнь или смерть в ином языке. С течением
времени я научилась мгновенно множить
дословный перевод на воображаемую
музыку и по подстрочнику именно
грузинского стихотворения сразу же
определять, с каким поэтом имею дело.
Да, нет счастья надежнее, чем талант
другого человека, единственно
позволяющий быть постоянно очарованным
человечеством. Кроме всей жизни, я помню
ночь такого счастья, преувеличенного до
чрезмерности синевой зелени за окном и
предрассветными соловьями.
"ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ"
(К 70-летию со дня рождения Симона
Чиковани.)
Даже если его собеседник не имел
других заслуг и отличий, кроме
замечательно круглых и румяных молодых
щек, а также самоуверенной склонности
объединять все слова в свадебные союзы
созвучий,—даже и тогда он заботливо
склонял к нему острое, быстрое лицо и
тратил на него весь слух, видимо, полагая,
что человеческие уста не могут
открываться для произнесения вздора.
Щеки, вздор и угрюмое желание
зарифмовать все, что есть, были моим
вкладом в тот день, когда Антокольский
среди московского снегопада ни за что ни
про что—просто моя судьба счастливая!—впервые
дарил мне Чиковани. Почему-то снег
сопутствовал всем нашим последующим
московским встречам, лето оставалось
уделом его земли, и было видно при снеге,
что слово «пальто» превосходит
солидностью и размером то, что
накидывал Чиковани на хрупкую худобу, —
так, перышко, немного черноты, условная
дань чужой зиме. Так же, как его «дача»,
его загородные владения не имели ни стен,
ни потолка, ни других тяжеловесных
пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба,
множества фиалок и разрушенной крепости
вдали и вверху, на горе.
Обремененный лишь легкостью силуэта,
он имел много удобств и преимуществ для
того, чтобы «привлечь к себе любовь
пространства»: оно само желало его,
втягивало, само трудилось над быстрым
лётом его походки и теперь совершенно
присвоило, растворило в себе. Эта
выдумка поэтов о «любви пространства»
применительно к ним самим —совершенная правда. Я уверена, что не
только Чикованй любил Горвашское ущелье,
Атени, Алазань, но и они любили его,
отличая от других путников, и по нему
теперь печалится Гремская колокольня.
|
Теперь и сам я думаю: ужели
по той дороге, странник и чудак,
я проходил?
Горвашское ущелье,
о, подтверди, что это было так1
|
|
Так это и было, он проходил, и мир,
скрывающий себя от взора ленивых невежд,
сверкал и сиял перед ним небывалостью
причуд и расцветок. Опасно пламенели
оранжевые быки, и олени оставляли свои
сказочные должности, неуместно
включаясь в труд молотьбы на гумне. Не
говоря уже о бледной чьей-то невесте,
которая радугой вырвалась из скуки
одноцветья и предстала перед ним, «подобная
фазану»: таинственная и ослепительная.
Разум его, затуманенный волшебством
сновидений, всегда был зорок и строг.
|
Мне снился сон—и что мне было делать?
Мне снился сон—я наблюдал его.
Как точен
был расчет—их было девять:
дубов и дэвов. Только и всего... .
...Я шел
и шел за девятью морями.
Число их
подтверждали неспроста
девять ворот, и
девять плит Марабды,
и девяти колодцев
чистота.
|
|
Казалось бы, что мне в этом
таинственном числе «девять», столь
пленительном для грузинского
воображения, в дэвах, колодцах, в горах,
напоминающих «квеври»—остроконечные
сосуды для вина? Но еще тогда, при первом
снегопаде, он прельстил меня, заманил в
необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум
впервые осенила догадка, что нет радости
надежнее, чем талант другого человека.
Но вот Симон Чиковани уехал в Тбилиси, а
я осталась здесь—его влюбленным и
прилежным братом, и этого
неопределенного звания мне навсегда
хватит для гордости и сиротства. Тяжкий,
драгоценный, кромешный труд перевода в
связи с Чиковани был для меня
блаженством— радостью было
воспроизвести в гортани его речь:
|
И, так и не изведавшая муки,
ты канула,
как бедная звезда.
На белом муле, о, на
белом муле
в Ушгули ты спустилась
навсегда.
|
|
Тайна этой легкости подлежит простой
разгадке. У Чиковани и в беседах, и в
мимолетных обмолвках, и в стихах предмет,
который он имеет в виду, и слово,
потраченное на определение предмета,
точно совпадают, между ними нет разлуки,
пустоты, и в этом счастливая выгода его
слушателя и переводчика. Расплывчатость
рассуждений, обманная многозначительность—вот где хлебнешь
горюшка.
Но я не хочу говорить о стихах, о
переводах. В этом разберутся другие,
многоученые люди. Я вообще предпочла бы
молчать, любить, вспоминать и печалиться,
отозвавшись на его давнее приглашение к
тишине, надобной природе для лепета и
бормотания:
|
Прекратим эти речи на миг,
пусть и дождь свое слово промолвит,
и средь тутовых веток немых
очи дремлющей птицы промоет.
|
|
Еще один снегопад был между нами. Какая
была рань весны, рань жизни — еще снег
был свеж и силен, еще никто не умер в мире
- для
меня. В старинной синеве сумерек,
доверху наполненных снегопадом, в
качании андерсеновского фонаря, вдруг—милое,
быстрое лицо, не умеющее медлить в одном
выражении, сейчас сосредоточенное на
улыбке радости и привета. Затем—ошибусь
между тропинкой и сугробами, под
дополнительным снегопадом с задетых
дерев— к дому и в дом. В теплых сенях—беспорядок
объятий, возгласов, таянье шапок.
— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел
и Зоя! (Это Антокольские.)
Кем приходятся мне эти четверо? Какое
точное название даст им душа, обмершая в
нестерпимой родимости и боли?
Там, пока пили вино и долгий малиновый
чай, читали стихи и сетовали на малые
невзгоды жизни, был ли мне дан, из
другого, предстоящего возраста, злак,
что это беспечное сидение впятером
вкруг стола и есть счастье, быстролетящая
драгоценность обстоятельств, что больше
мне так не сидеть никогда?
|
В глаза чудес, исполненные света,
всю
жизнь смотрел я, не устав смотреть.
О,
девять раз изведавшему это
не боязно
однажды умереть
|
|
.
Разумеется. И я так думаю. Но вот он
спускается с крыльца, уходит,
оборачиваясь и улыбаясь, в голубую
глубину вселенной, уже никаким объятием
нежности его не - удержишь, и снега,
звезды, деревья смыкаются над ним—
навсегда. Как я потом полечу, поеду,
поплетусь, как потащу себя вверх по той
лестнице, в те комнаты, большими окнами
озирающие цирковую площадь, как
совладаю со слепотою плача?
Из тех пятерых, сидевших за столом,
двон нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.
Иногда юные люди приходят ко мне. Что я
скажу им? Им лучше известно, как
соединять воедино перо, чернила и бумагу.
Одно, одно лишь надо было бы сказать—пусть
ненасытно любуются лицами тех, кого
любят. В сослагательном наклонении так
много печали: ему сейчас исполнилось бы
семьдесят лет. Но я ничего не говорю.
|
Как миндаль облетел и намок!
Дождь
дорогу марает и моет—
это он подает мне
намек,
что не столько я стар, сколько
молод.
Слышишь?—в тутовых ветках немых
голос птицы свежее и резче.
Прекратим
эти речи на миг,
лишь на миг прекратим
эти речи.
|
|
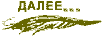
|
|


 ОТРЫВОК
ОТРЫВОК