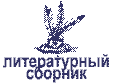|
|
Через
два года эта девочка и эта женщина, как
и сотни миллионов людей, попадут в ад
войны, еще через год, как сотни тысяч, --
в колонны беженцев, среди которых
десятки тысяч детей. Воспоминаний о войне написано много. О жизни в тылу, наверное, меньше. О том, как люди, в основном женщины, дети, старики – пытались добраться до хоть какого-то укрытия, ступить на более или менее твердую почву под ногами – еще меньше. Еще меньше писалось в то время дневников – не до того было. И совсем уникальное явление – дневник девочки, попавшей в эту мясорубку прямо из счастливого детства. |
|||
|
Из
разбитого, горящего Ростова, из
разрушенного дома, Алла и ее мама
вынесли только маленькую сумочку с
документами. В мучительном пешем пути
от Ростова до Махачкалы ни о каких
записях речи быть не могло. Но едва
добравшись до поезда, Алла начинает
писать – огрызками карандашей, на
обрывках бумаги. И эти клочки бумаги с
исчезающими буквами стали той зацепкой
для памяти, которая дала возможность
написать письмо
сыну о своем Разорванном
детстве, передать ему свой дневник,
написанный через пятьдесят с лишним лет.
Иначе как дневник эта книга и не
воспринимается. |
||||
|
Алла Соффер Разорванное
мое детство ОПЯТЬ
ВОЙНА Решение пришло
мгновенно. Скорее, прямо сейчас в
Ростов! Но как? Можно пешком, ведь идут
же беженцы, но ведь это долго. В нашей
стайке девчонок произошел раскол. Кто-то
решил вернуться к Калерии, кто-то готов
был идти в Ростов прямо отсюда. Зачем
возвращаться, только время терять! И
что мы там, в кошаре оставили? Расческу
да зеркальце, да томик Лермонтова с
прозой «Вадим» и «Братья», да рабочую
одежду. Мы стали плакать и умолять деда,
чтобы свез нас хотя бы до дороги.
Обещали, что пришлем деньги, много (кто
бы поверил в такой обстановке?). Но дед,
видимо, разжалобился. Пошел запрягать
лошадь. И вот мы на дороге. Несколько
девочек, из них четыре еврейки. То, что
мы увидели, привело нас в ужас. И группа
наша раскололась опять, потому что,
кого ни спросишь из беженцев, все в один
голос твердят: «Какой Ростов? Идите,
пока не поздно в тыл России». Что делать?
Бóльшая часть наших подружек так и
сделали, так и ушли вглубь. А мы
упросили деда довезти нас до любого
ближайшего городка, станции, куда-нибудь,
ближе к Ростову, к нашим близким, и дед
повез нас. Была ночь, но мы не спали. И
вдруг, километра через три, уже на
рассвете, я увидела среди людского и
машинного потока подводу и Копейкина, а
на подводе моя мама и Симин папа. От
радости, от напряжения не было слов, мы
плакали навзрыд. Это было чудо, судьба,
сон. ДАЛЬШЕ
БЫЛО ТО, ЧТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО К вечеру мы
подъехали к мосту через Дон. Город был
затемнен и только пожары высвечивали
его отдельные части в круто
поднимающихся улицах правобережной
стороны. Только мы успели въехать на
мост, как налетели бомбардировщики в
огромном количестве. Бомбы свистели и
разрывались совсем рядом — в реке, на
набережных. Навстречу нам по мосту
ехали военные грузовики, получился
затор, паника и Копейкин сказал: «Слезайте,
бегите по пешеходной дорожке». Он тоже
спрыгнул с телеги и побежал с нами, но
мы тут же потеряли друг друга из вида.
Темно, страшно, свистят бомбы, на мосту
затор. Мы держались с мамой за руки,
натыкались на встречных, тоже бежавших.
Это был сущий ад. Наконец мы выбрались
на привокзальную площадь и увидели
вокзал, объятый пламенем. Мы свернули в
первую попавшуюся улицу, забежали в
какой-то подвал и прижались к его
стенам. Вскоре подвал был забит
перепуганными людьми, в темноте ничего
нельзя было увидеть. От страха люди
молчали. До самого рассвета
продолжалась бомбежка. Под утро стало
тихо, и мы вместе со всеми вышли из
подвала и пошли в сторону
привокзальной площади. И вместо моста
через Дон мы увидели лишь скрюченные
металлоконструкции. А по Садовой из
Ростова, по направлению к Аксаю шли
беженцы и отступала армия — шла
военная техника, красноармейцы, ехали
машины. Конечно, в такой толчее мы не
увидели ни Симочку, ни Копейкина, ни
двух девочек, которые добрались вчера с
нами до моста. Судьба их была нам
неизвестна еще очень долго. Нужно было скорей
идти домой, к бабушке и, вообще, думать,
что делать дальше. То, что нужно уходить
из города, было ясно. Но как? Как увезти
бабушку? А пока что, пользуясь тишиной,
мы шли, шли и шли. Когда мы были уже за
один квартал до дома, снова появилась
туча немецких бомбардировщиков,
нарастал их гул и, уже без сил, уставшие
и измученные, мы вбежали во двор. Мама
просто затолкала меня в щели, которые
за месяц моего отсутствия вырыли
посреди двора, а сама бросилась в дом к
бабушке. В темноте я еле нашла место и
опустилась на дно траншеи, в которой
было уже несколько человек с нашего
двора. Они начали меня расспрашивать.
Что я им отвечала — не помню, уставшая и
голодная я засыпала, прислонившись к
земляной стенке. Кто-то дал мне кусок
хлеба, конфету и теплую воду из термоса.
Сверху громыхало часа два. Когда стихло,
я вылезла и пошла в дом. Мама собирала
какие-то вещи в небольшой чемодан, а в
мой, маленький, балетный, она положила
самое необходимое. Документы она
засунула в карманы гимнастерки и одела
ее на себя. Бабушка сидела на стуле, в
своем черном длинном платье. В руках
она держала авоську с продуктами в
дорогу. На электроплитке кипел чайник.
Мы сели к столу поесть перед дорогой.
Через 5 минут снова знакомый
нарастающий гул самолетов загнал нас в
щели, где мы решили переждать до
следующего затишья, а дальше пойдем
вместе с отступающей армией. Может быть,
удастся посадить бабушку на какой-нибудь
транспорт. Что оставаться, что уходить
было одинаково для нас, мама это хорошо
понимала, но просто сидеть и ждать
смерти было еще хуже. Но все получилось
совсем по-другому. Сколько мы просидели
в щелях, трудно сказать, темнота не
давала возможности ощущать время.
Бомбежки не прекращались ни днем, ни
ночью. Два, три дня? Сколько? Теперь уже
стали слышны свист нарядов, уханье
пушек. Мы подъели все припасы. Бабушка
сидела на маленькой скамеечке, ноги ее
затекли. наверное, она простудилась,
хотя мама закутала ее в теплую шаль. Она
кашляла, плакала и просилась домой. Мы,
наверное, привыкли к бомбежкам,
обстрелам. Больше нас донимал страх,
что город захватят немцы. В один из
перерывов мама вывела бабушку на
воздух, зашли в дом. Я даже выбежала на
улицу, Дом Советов весь превратился в
груду кирпича, вокруг горели дома,
прямо на нашей улице поперек нее стояло
несколько пушек и вокруг бегали
солдаты. Это значит, что город еще не
занят немцами. Мы решили идти под
обстрелами прямо сейчас, но нужно было
что-то сделать покушать. Мы были
голодные. Электроплитку включить не
удалось, хорошо, что еще был керосин и
весь его остаток я вылила в керосинку.
Бабушка стала печь оладьи. И вдруг
опять черная туча самолетов. Сколько их
было — 50? 100? или больше? И начали
свистеть бомбы. Бабушка не слыша этого
ужаса, была спокойна, и категорически
отказалась идти в щели, а мы с мамой уже
машинально бежали туда. До глубокой
ночи нельзя было высунуть нос. Бомбы
рвались где-то совсем рядом. Мама в
тревоге высовывала голову, приоткрывая
деревянный щит. Она говорила, что
светло, как днем, вокруг все горит, но
наш дом цел. Я чувствовала себя
парализованной от страха, от мыслей.
Смерть витала где-то рядом. И наступало
безразличие — от страха, голода,
бессонницы. Я думала об Адике, о Симочке,
и вообще о жизни, о Сталине. Что
происходит? Я эти мысли гнала, гнала. Я
жила той минутой, в которой я жила, а
потом следующей, если она будет, и все.
Где-то глубокой ночью бомба
разорвалась у нас над головой. И
неправда, что ее нарастающего свисте не
было слышно, просто звук разрыва был
такой оглушительный, что заложило уши и
стало совсем тихо. И вот тут я подумала,
что я умерла. А когда мы очнулись, мы
увидели, что над головой звездное небо.
Все щиты и земля на них сдулись
взрывной волной, часть щелей
засыпалась и там оказались люди, мы
слышали их крики и бросились
откапывать руками, подвернувшейся
доской. Мы вытащили двух женщин и
мальчика. Мы — это не только я и мама.
Все кто был в щелях, человек десять. А
когда я посмотрела в сторону нашего
дома, я его не увидела и закричала: «Бабушка,
бабушка!» И тогда начали разбирать
завалившуюся стенку нашего дома. Слезы
заволакивали лицо, я видела маму,
которая тоже плакала. В это время мы не
слышали ни взрывов, ни свиста снарядов
и бомб. Но эта картина сопровождает
меня всю жизнь и, особенно, когда у меня
высокая температура. Когда из-под
обломков извлекли бабушку, она еще была
жива. Она тихо спрашивала: «Что
случилось? Что это? Почему? Это
керосинка вспыхнула?» Спасти ее не
удалось. На спине в районе поясницы у
нее были зияющие раны и она, истекая
кровью, успокоилась через несколько
минут. Умер также и мальчик, ему было
лет 10. Их похоронили с помощью соседей
под деревом, во дворе. А мы с мамой,
захватив лишь мой балетный чемоданчик,
даже не залезая в щели, где остались
наши «самые необходимые вещи», вышли на
улицу в чем были. На маме была юбка и
гимнастерка с карманами, где были
документы. На руке ее были золотые часы,
на пальце золотое кольцо, которое она
сняла с пальца бабушки и которое теперь
на моей руке. А я была в своем синем в
белый горошек платьице, типа «Татьяна». БЕГСТВО Были 20-е числа
июля 1942 г.
Лето было жаркое, засушливое,
невыносимое. И только страх, что не
успеем убежать от немцев, мог дать силы
и нечеловеческую способность все
вынести, вытерпеть. Об ужасной смерти
бабушки на наших глазах и
невозможности похоронить ее по-человечески,
о том, что мы покидаем дом, потеряв ВСЁ,
что у нас было, о том, что может ждать
нас впереди — некогда было думать. Одна
мысль: успеть уйти. И все мысли, все силы
были подчинены этому. Мы покидали город
— горящий, разбитый, с неубранными
трупами на улицах, под вой бомб и свист
снарядов. И мы были не одни. Со всех улиц
на Садовую — основную магистраль,
ведущую ко 2-му мосту через Дон, в район
Аксай (по названию притока Дона — Аксая)
шли люди в надежде, что еще можно
выбраться из города, потому что в этом
же направлении отступали уже
разрозненные группы Красной Армии с
военной техникой. Еще до рассвета мы
вышли на окраину города, к стекольному
заводу. Увы, мост был разбит, но узкая,
метра три, полоска понтонного моста
соединяла оба берега. И по этому мосту,
тесня друг друга, шли машины, подводы,
войска и беженцы, на которых никто не
обращал внимания. Они забирались на
машины, цеплялись за борта кузовов и
друг за друга, чтобы не упасть в воду.
Ноги по щиколотку были в воде. Понтоны
проседали и сильно колебались от
неравномерного груза. И мы шли в этой
толчее, очень крепко держась за руки.
Главное было не потеряться. Шум,
скрежет, грохот, ругань, крики. Кто-то
упал за борт, и может быть, не один. Но
вот у нас под ногами твердая земля, и мы
ускоряем шаг и почти бежим еще 200, 300, а
может быть и все 500 метров, прежде чем
обернуться и посмотреть назад, на город
в огне и дыму, город моего счастливого
детства. Ростов город, Ростов-Дон. Город был покрыт
черной тучей дыма от пожарищ, которые
уже никто не тушил. А над этой тучей
висела другая, зловещая туча гудящих
самолетов, заполонивших все небо, уже
светлое от рассвета. И через мгновение
посыпались на город черные
смертоносные бомбы. В это время сзади
нас взошло солнце, и его лучи зажгли
множество сверкающих солнечных
зайчиков на битых стеклах домов, на
машинах, все еще ползущих по понтону, и
на огромной куче битых бутылок во дворе
стекольного завода, которые были
приготовлены для «зажигательных»
смесей. Эти сверкающие точки вдруг
вошли в мою душу сказочным
предзнаменованием надежды на спасение,
на благополучный исход. Я поверила этим
огонькам как знаку, дающему мне силы.
Они «явились мне как божество, как
вдохновенье» и помогли верить, что наш
тяжелый исход от смерти к жизни
осуществится. По всем дорогам и путям,
по которым мы прошли, я находила
солнечные зайчики на стеклах разбитых
машин, на стеклах домов, мимо которых мы
шли, и даже на капельках росы. Солнечные зайчики
— это мое божество, я сохранила их на
всю свою жизнь, верю в них и молюсь до
сих пор. Мы шли в этом
потоке беженцев с отступающей армией.
Куда? Куда шли все, с общим направлением
вглубь страны. Конечным пунктом мы
наметили себе Новосибирск. И хотя мы не
знали адреса Ниси, надеялись, что он
будет именно там. Но ведь не пешком же в
Сибирь! Значит, нужно дойти до какого-то
города, где можно будет сесть в поезд.
Деньги у мамы были в моем балетном
чемоданчике, там же были и документы, не
поместившиеся в карманы, облигации и
прочие бумаги. Начав свой пеший поход
из Ростова, мы понимали, что не сегодня,
завтра, город может быть занят немцами
и что немецкие войска будут катиться
вглубь страны быстрее, чем мы идем
пешком. Пока что не было заметно
противостояния этому движению со
стороны Красной Армии. Наоборот, как мы
понимали, войска наши отступали. Мы шли
как все, не зная конкретно куда, не зная
что мы будем кушать, где спать и сколько
продлится наш поход. Колонна наша
растянулась на несколько километров.
Почти сразу мы ощутили, что обувь наша
не приспособлена к такому походу. Я
была в сандалиях на босу ногу. Очень
скоро у одного из них оторвалась пряжка,
и мне ничего не оставалось, как
оторвать от платья одну из оборок и
подвязать сандалий к ноге. У мамы было
хуже. Ее босоножки были с открытыми
пальцами, на небольшом каблучке. Дорога
была когда-то покрыта асфальтом, сейчас
изрядно разбитым военной техникой.
Воронки от бомб, рытвины, разбитые
машины, мертвые лошади с вывороченными
внутренностями, брошенный скарб,
чемоданы, тюки и никому теперь не
нужные вещи — все это было на дороге.
Пыль стояла в воздухе. Мамины пальцы
разбились очень скоро. Мы обмотали их
еще одной оборкой с моего платья. Так мы
и шли. Голода мы не чувствовали, хотя не
помню, когда мы ели в последний раз, и у
нас ничего с собой не было. Солнце
поднималось все выше, хотелось пить.
Жара начинала донимать, но страх гнал
вперед. Нужно было уйти как можно
дальше. Не помню, через сколько часов
пути — 3, 4, или еще больше, неожиданно
налетели немецкие самолеты, кто-то
крикнул — «ложись!» и все бросились
врассыпную прочь с дороги в какие-то
кусты, обдирая руки, ноги и замирая в
страхе. Самолетов было два или три, они
пронеслись над дорогой совсем низко и
обстреляли ее с бреющего полета. Когда
все стихло, мы вышли снова на дорогу.
Была жуткая сумятица. Кого-то убили, кто-то
ранен, крики, стоны. Мы побрели, обходя
препятствия, и мама, дорогая моя
мамочка, обняла меня и старалась
отвернуть мое лицо, когда мы проходили
мимо тех, кто уже не пойдет дальше.
Рядом с нами оказался военный. У него
был оборван воротник гимнастерки, за
спиной висел вещевой мешок. Я запомнила
только это, лицо его совсем не помню.
Увидев нас, он пошел рядом. Впереди
ехала телега, груженная чем-то и
накрытая брезентом. Рядом шли
красноармейцы, человек 20-25. На телеге
сидели трое раненых красноармейцев. И
этот военный, увидев мамины ноги,
посадил нас на эту телегу, а сам пошел
рядом. Это было счастье несказанное.
Телега ехала медленно, со скоростью
движения всей колонны. Военный спросил
маму, откуда мы. Они шли от Таганрога.
Этот военный рассказал, что они
двигаются к Сталинграду, и что если мы
хотим попасть в Новосибирск, нам не
нужно идти в этом направлении, а нужно
свернуть вправо и пробираться по
Северному Кавказу в направлении к
Махачкале. Только оттуда можно будет
попробовать добраться до Сибири.
Сказал, что все железные дороги в
Ростовской области разбиты, и что не
нужно идти вместе с отступающей армией,
которую будут постоянно обстреливать
немецкие самолеты, а нужно сойти с
основной магистрали и идти по
проселочным дорогам и тропам через
малые села и станицы. Только там можно
раздобыть еду и питье и попроситься на
ночлег. На ближайшей развилке мы
попрощались. Он дал нам полбуханки
хлеба и два кусочка пиленого сахара, и
еще отдал свою алюминиевую кружку. А на
прощанье сказал маме: «Берегите свою
девочку. Будьте осторожны, в такой
обстановке ее могут погубить. Не
оставляйте ее одну». И мы пошли по
указанному направлению дальше. Дорога была
грунтовая. Здесь было значительно тише.
Военной техники и машин почти не было,
но шло много пеших беженцев и мы
слились с ними. Как только мы свернули,
мама сняла гимнастерку, сказав, что ей
очень в ней жарко. Мы отпороли рукава и,
распоров продольные швы на них,
приспособили их как косынки на головы.
А мне мама натянула эту «косынку» на
лоб и даже закрыла щеки, якобы от солнца,
но я поняла, что этим она хотела отвлечь
от меня мужские взоры, испугавшись
напутствия военного. Идти в таких
косынках было просто невозможно. Пот
стекал за шиворот, и платье,
пропитавшись им, сделалось заскорузлым,
натирало шею. А материал платья,
высохнув до твердого, просто ломался.
Но мы шли, шли и шли. Стало темнеть. За
этот первый день, долгий и мучительный,
мы ужасно устали. Ноги уже не слушались,
хотелось спать. Отойдя изрядно от
основной магистрали, мы присели под
деревья отдохнуть и съесть по кусочку
хлеба, пососать сахар. Вскоре к нам
подсела семья из Мариуполя. Пожилой
мужчина, как выяснилось, дед со
взрослой внучкой, у которой на руках
был грудной ребенок, и внуком,
мальчиком моего возраста. Они уже шли
пешком из Мариуполя в Ростов. Теперь
они хотели добраться до Армении. Там у
них были родственники. Они считали, что
немцы до Кавказа не доберутся. У всех у
них были за плечами мешки, они уже имели
опыт беженцев. Старик отлил нам из
фляги немного воды и дал много полезных
советов. Во-первых, идти нужно ночью,
нет этой изнуряющей жары и не так
устаешь, а спать днем, в самое пекло,
забравшись в кусты или даже вглубь
кукурузных посадок или подсолнечника.
Проходя через поселки, не стесняться
стучать в дома. Люди добрые. Правда,
никто не хочет брать деньги, но
обменять на что-нибудь могут. Иные и
просто накормят. Но, самое главное, он
отдал нам старую карту дорог Северного
Кавказа — приложение к ростовской
газете «Молот». Эта карта по сей день у
меня и я храню ее как реликвию. Мы пошли
дальше вместе с ними, но у них сил
оказалось больше. Мама шла очень тяжело.
Вскоре мы попрощались, отстали и
плелись как могли. У нас было много
попутчиков, которые не советовали
заходить в поселки, а лучше обходить их
стороной. В поселках собаки, ночью их
спускают с цепей. Да и люди здесь
зажиточные. Ничем поделиться не хотят,
на ночлег не пускают. Ну, а мы
испробовали и то и другое. Сначала шли,
обходя поселки. Если удавалось,
воровали с окраинных огородов овощи, из
садов — фрукты. Уже поспели абрикосы,
сливы, яблоки. Ели недозрелые початки.
Хуже было с водой, вернее, без нее.
Первую ночь мы провели просто в поле.
Подмяли под себя траву, обнялись и
уснули. Мы видели, что так поступают
другие беженцы. Утром, когда стало
светать, я открыла глаза и увидела на
стеблях травы росу. Я слизала ее.
Конечно, напиться было невозможно, но
смочить язык получалось. Правда, больше
всего росы было на высоких жестких
острых листьях южных трав. Они резали
язык и губы. Но приходилось терпеть,
потому что в местах, через которые мы
шли, не было ни речек, ни озер. В дома мы
пробовали стучаться — голод не тетка.
Были случаи, когда на стук в дверь кто-то
выглядывал в окно и дверь не
открывалась. В других домах кричали: «Проходите,
проходите, много вас тут таких». И мы
проходили. Но были люди, что кормили
целым обедом и еще давали мешочек с
продуктами, воду. Ночевать в домах мама
боялась больше, чем в поле. Мы шли так
уже больше недели, счет дням был
потерян. Волосы наши, заплетенные в
косы, не расчесывались, спутались. Ноги
у мамы отекли, босоножки ее стоптались
вконец, каблуки отвалились. И на одной
из наших «стоянок» мы сняли с себя свои
косынки из рукавов гимнастерки,
обмотали мамины ступни и привязали к
ногам моими ленточками из кос, а
босоножки как подошвы привязали
веревками, подобранными по дороге. Это
было ужасно. Мама не могла долго ходить,
уставала, и мы стали чаще отдыхать. Нас
обгоняли другие беженцы и мы с тоской
смотрели на них, уходящих вперед. Но еще
хуже был день, когда моя природа
заставила меня помучиться настолько,
что мы потеряли целый день. (Ко мне
пришли «гости» — так мы называли это
явление) и всегда в 1-й день я
чувствовала себя плохо. Болел низ
живота, болела голова и о том, чтобы
идти по жаре, не могло быть и речи. Мы
отлежались в тени деревьев. На другой
день стало легче, и мы снова пустились в
путь. Помню, как текли по моим ногам
струйки крови. Не было у нас для этого
случая необходимых принадлежностей.
Уже были оторваны все оборки с моего
платья, оба рукавчика-фонарика.
Наверное, ходили так первобытные
девушки. Негде было искупаться. Из глаз
текли слезы. Наконец, мы
добрались до железной дороги. Это была
ветка от Сальска до Тихорецкой. Мы
вышли прямо на станцию. Не помню как она
называлась, но вокзальчик, пути и дома
вокруг были разрушены до основания. С
трудом мы нашли живых людей, и они
рассказали, что немецкие самолеты
несколько дней тому назад все
разбомбили, и что каждый день над ними
пролетают самолеты и бомбят все
станции дальше. Они не советовали идти
к Тихорецкой, наверняка она разбита.
Сами они грузили свой скарб на грузовик,
у них была куча детей и мы не осмелились
просить захватить и нас. И тут мама
поняла, что нет смысла беречь свои
золотые часы. Она думала, что дальше в
пути они пригодятся больше, но теперь
не было ясности, что вообще будет
дальше. Она предложила этим людям часы
в обмен на продукты и, если можно, где-нибудь
искупаться и, может быть, какую-нибудь
косынку на голову. И еще она спросила,
не найдется ли у них старая обувь,
которую они все равно бросят. Люди
оказались на редкость доброжелательны
и помогли нам, чем смогли. Предложенные
мамой золотые часы с удовольствием
взяли. Они накормили нас обедом. К
вечеру натопили баню. И они, и мы
искупались, и даже сделали постирушку.
А уж о том, как спать в доме, под крышей,
мы уже давно забыли. Правда, мы спали на
полу на половиках и, кажется, вокруг
бегали мыши. Но мы спали как убитые,
впервые отоспавшись. А утром, выпив по
кружке молока с хлебом и взяв немного
из оставшейся еды с собой, мы
простились с ними. А одна из бабушек,
которая все время крестилась,
окрестила и нас, на дорогу. Маме они
дали старые мужские домашние туфли на
резиновой подошве, и ее отекшие ноги
обрели относительный покой. Правда,
шлепанцы пришлось привязать веревками
к ногам. На головах у нас были «косынки»,
которые мы сделали из подаренной
старой наволочки. Наши «хозяева»
уехали, увезя на грузовике корову, кое-какой
скарб и шестерых или семерых детей,
несколько бабушек и молодух, мы их не
сосчитали, не разобрались кто есть кто
в этом семействе. Дом они заколотили.
Они сказали, что мы можем взять все, что
осталось в доме. А мы взяли только миску,
матерчатую сумку и поломанную расческу,
потому что любой предмет в дороге
только помеха. Мы и так мучились с нашим
балетным чемоданчиком, но бросить его
не решались. Теперь все наши «бумаги»
мы переложили в сумку, сунули туда еду,
повесили на мое плечо и были готовы в
путь, а чемоданчик бросили. Перед
расставанием мы вместе с хозяевами
посмотрели карту и они, зная эти края,
посоветовали как идти. Было решено
вернуться на нашу дорогу и идти через
Прикумск на Махачкалу. В Прикумске
могла быть еще цела железная дорога, но
надежды было мало, т.к. ежедневно
пролетали самолеты и бомбили где-то уже
впереди нас. Уходя рано утром,
когда солнце еще не было в зените, я
увидела на окнах водонапорной башни
солнечных зайчиков и это было хорошее
предзнаменование. Шли мы привычным
медленным шагом, часто отдыхая под
деревьями. Там же и спали днем, изнывая
от жары. Пили утром росу. Вскоре мы
потеряли счет дням, да и время дня
определяли по солнцу. Стучались в
закрытые двери и очень редко удавалось
достучаться. Война уже добралась в эти
края, многие дома были забиты, на дороге
было очень много беженцев. А оставались
те, кто ждал немцев. Так говорили люди,
которые обгоняли нас. Над нами
пролетали самолеты и мы слышали
разрывы бомб, где-то впереди и близко от
нас. Все чаще стали попадаться наши
военные части, но не отступающие, а
скопившиеся в траншеях, дотах, дзотах.
Мы проходили мимо замаскированных
пушек, складов боеприпасов, уставших
бойцов, охранявших свое хозяйство, и
старались обходить подальше эти места.
Однажды, отдыхая в подсолнечнике
недалеко от дороги, мы увидали, как по
ней промчались несколько
мотоциклистов, и видели как
разбегались с дороги в стороны идущие
по ней беженцы. Мы поняли, что это немцы.
Мы так перепугались, что до темноты
боялись выйти из своего укрытия и
сидели там вместе с группой других
беженцев. Мы уже знали, что наши войска
подтягиваются к Сталинграду, и что там
будет великая бойня, но у нас уже не
было уверенности в том, что немцев
можно победить. На сердце была тревога,
мы брели по тропинкам, не выходя на
дорогу, обходя поля, где уже колосились
высокие хлеба, которые никто не убирал.
Мама совсем обессилела. Был уже август
месяц. Жара стояла невыносимая, и ни
одного дождя за все время. До Махачкалы
было еще далеко. Мы шли, и мысли меня
донимали. Разговаривать во время
ходьбы было трудно и мы молча шли,
каждый думая о своем. С тоской я думала
о своих друзьях — где же Адик, что с ним?
Нашла ли его и Евгения Львовича
Маргарита Петровна? Что с Симочкой?
Ведь мы разбежались на привокзальной
площади не попрощавшись, и ничего я о
ней не знала. Что с Левой? Что с Любой в
Ленинграде? Что будет с нами? Куда мы
идем? Что ждет нас впереди — спасение
или... Чтоб хоть как-то отвлечься от этих
горьких мыслей, я вспоминала стихи,
которые знала наизусть и повторяла
слова Адика из его последней записки: «Бывает
и хуже!» Глядя на отекшие мамины ноги,
которые она передвигала все медленней
и медленней, я сочинила четверостишие:
Эти детские
строки, родившиеся от сиюминутных
переживаний, я повторяла и повторяла,
боясь произнести их вслух, чтобы мама
не поняла, что может настать тот день,
когда она уже не сможет идти дальше. И
снова я искала своих «солнечных
зайчиков», которые, посылая мне свои
лучи, давали надежду на спасение,
придавали силу, чтобы идти дальше и
дальше. А беженцев становилось все
больше. Мы видели, как по дороге ехали
грузовики, подводы, груженные скарбом,
поверх которого сидели люди. Кто-то
толкал тележку с детьми. Кто-то шел
пешком, как мы. И дорога была как живая.
Мы идем не одни. Нас много! Это все-таки
как-то успокаивало. В поселки
заходить было бесполезно. Огромное
количество бездомных людей обивало там
пороги, стучалось в окна и двери, а
хозяева спускали на них собак. И мы
обходили поселки, делая большие круги.
Вдруг мы вышли к еще одной железной
дороге где-то недалеко от Ставрополя,
нашего Ставрополя, и у нас было
минутное желание пойти в этот город.
Там жил дядя Боря с женой и дочкой
Ниночкой, моей сестрой. Но мы не знали,
там ли они. Ведь дядя Боря был коммунист.
Наверное, они уехали вовремя. И мы пошли
дальше. Железная дорога
была разрушена, на станции мы умылись
из-под крана, набрали воды. Народу было
много. Станция еще жила, где-то
ремонтировали пути и люди ждали. Мы
узнали, что немцы наступают по всем
фронтам, что Ленинград в блокаде, что
немцы совсем близко от Москвы, и мы
пошли дальше. На следующем участке нам
немного повезло, мы ехали до самого
Прикумска на телеге, которая была
нагружена продуктами, папиросами и пр.,
ею управлял красноармеец. Он вез эти
товары в какую-то воинскую часть. Он
высадил нас недалеко от какой-то
станции, где был мост через р. Кума и
сказал, что со станции Моздок еще
недавно ходили поезда. И мы пошли к
мосту, около которого было
столпотворение. На мосту стояли
зенитки, пушки, он охранялся военными,
через него проходили воинские части, а
в промежутках пропускали беженцев,
которые торопились и создавали ужасную
давку. Как мы вышли живыми из этой толпы,
трудно описать. До Моздока было
еще очень далеко, напрямую километров
двадцать, но прямой дороги нет, нужно
идти вдоль р. Кумы, а затем вдоль
железной дороги, и может быть, на какой-нибудь
станции удастся сесть на поезд, если
поезда вообще ходят. Так мы и пошли
вместе с потоком беженцев. Дойдя до
железной дороги, мы поняли, что и здесь
поезда не ходят. На путях стояли
сгоревшие вагоны, рельсы покорежены,
дома на станции разрушены. Дальше шли
без всякой надежды, голодные и еле
плелись. Самое неприятное чувство,
когда ты уже без сил, а другие обгоняют.
Мы долго отдыхали, отойдя от станции,
наверное всю ночь. Заснуть не могли,
почему-то впервые мы почувствовали
страх не от войны, не от того, что ждет
впереди, а от местности. В каждом кусте
нам кто-то чудился. Мы слышали какие-то
непонятные звуки и, прижавшись друг к
другу, дремали. Но с рассветом опять
отправились в путь и шли день или два, я
уже не помню. В Моздоке наш пеший ход
закончился, но день этот было самый
тяжелый. Городок еще жил. Даже были
очереди в магазины. Но продукты давали
по карточкам, а у нас на август месяц их
не было. Казалось, что в этом маленьком
городке скопились все беженцы, так их
было много. Когда мы доплелись, в
буквальном смысле, до вокзальной
площади (мама, уже опиравшаяся на меня,
с трудом шла), мы увидели там жуткое
столпотворение. Народ с тюками, на
телегах, лошади, коровы. Сразу ничего
нельзя было понять. С трудом нашли
место в тени и сели передохнуть. Мама
смотрела на меня такими глазами,
наполненными слезами, что мне стало
страшно и я вдруг поняла, что теперь
только от меня может зависеть наша
дальнейшая судьба. Мы узнали, что в
этот день было 14 августа. Мой 15-й день
рождения мы провели в пути, не вспомнив
о нем. Я даже не могла припомнить, где мы
были в этот день и что в этот день было.
Нужно было что-нибудь раздобыть
покушать, где-то найти воду и вообще
разобраться, что делать дальше. Маме
нужно было дать отдых, и я одна пошла
искать базар, где за деньги можно было
что-то купить. Мама осталась сидеть под
деревом, прислонившись к стволу. Я не
знала, много у нас денег или мало,
потому что не знала цен на рынке, и
взяла все, что у нас было. Рынок
оказался близко. И по дороге и на рынке
было очень много народу и все беженцы.
Пыльные лица, мятые грязные одежды,
испуганные глаза и мешки за плечами.
Так выглядела и я. И так же как они, я
толкалась в толпе, чтобы пробраться к
продавцу. Мне удалось купить черствую
буханку хлеба, кусок творога,
завернутый в марлю, полкило помидоров,
яблоки, отварную картошку, крутые яйца,
что-то еще. Не зная, что сколько стоит, я
отдавала деньги, не получая сдачи, и
остановилась только тогда, когда
увидела, что остается что-то уж очень
мало. Нужно было хоть сколько-то
сохранить на будущее. Вернувшись, я
долго искала маму. Одинаковых деревьев
было полно, а народу еще больше. Я
искала ее, и слезы лились из глаз, я
размазывала их по лицу вместе с пылью. И,
наконец, я ее увидела: ее заслонил целый
табор телег, груженных тюками и детьми.
Пробравшись к ней, радостная, что нашла
ее и что мы можем поесть, я в ужасе
замерла. Она сидела, протянув свои
толстые, отекшие ноги, заплаканная. Наш
мешок, в котором были документы и,
который мы не выпускали из рук, валялся
рядом. Она была безучастная. Солнце
переместилось, и она сидела на жаре,
поникшая, не в состоянии даже
передвинуться в тень. Меня охватил ужас. — Мама, мамочка,
что с тобой? Я принесла покушать. Она открыла глаза,
увидела меня и очень тихо сказала: — Доченька, мне
очень плохо. Больше нет сил. Я останусь
здесь, а ты сама добирайся до Ниси. Тебе
кто-нибудь поможет. Я тебе буду только
мешать. Иди. Уходи скорей. — Никуда не уйду.
Я не оставлю тебя. Я сбегаю на вокзал,
принесу воды, мы покушаем и тебе станет
лучше. Вот увидишь, все будет хорошо. Не
плачь, моя мамочка! Я рванулась с
миской в сторону вокзала. И не знаю даже,
с чем сравнить мое состояние. Я вдруг
почувствовала в себе необыкновенную
силу, я повзрослела лет на десять, в
одно мгновение стала взрослой,
почувствовав ответственность и страх
потерять единственное близкое
существо. Я бежала и остановилась перед
плотной полосой сидевших на тюках
людей. Передо мной был вокзал. На путях
стоял состав в 5-6 вагонов. Впереди
пыхтел паровоз. На других путях еще
дымились покореженные вагоны, вокзал с
надписью «ст. Моздок» был разбит. Перед
составом один к одному стояли
красноармейцы с винтовками, не
подпуская никого. Шла эвакуация
госпиталя. Несли на носилках раненых. Я
разглядела состав. Три вагона были
пассажирские, остальные пульмановские,
открытые сверху товарные вагоны. У
пассажирских вагонов я увидела
медсестер или врачей — они были в
накинутых белых халатах и сортировали
раненых, лежавших на земле на носилках.
В одном из них я каким-то шестым
чувством почувствовала начальника. Что-то
мной двигало, откуда-то взялись силы. Я
не задумываясь, прямо через тюки,
расталкивая людей, перелезла через
людскую преграду, но меня тут же
остановили красноармейцы: «Дальше
нельзя». — Пустите, мне
нужно! — кричала я. Я увидела, что «мой
начальник» вместе с двумя санитарами-красноармейцами
двинулся вдоль состава в конец вокзала,
где стояло несколько машин с красными
крестами. Я тоже пошла в этом
направлении. Между нами была цепь
красноармейцев, охранявших состав, и
они меня не пропускали. Почти у самых
машин, метрах в 15 от них, я вдруг уловила
момент и проскользнула мимо
отвернувшегося красноармейца, прямо к
«начальнику». Я схватила его за рукав: «Дяденька,
помогите. У меня мама врач, честное
пионерское, она не может дальше идти, у
нее отекли ноги. Пожалуйста, прошу вас,
помогите!» — я не помню, что я говорила
еще, я плакала, размазывая слезы рукой,
в которой у меня была миска. Другой
рукой я в него прочно вцепилась. В
первое мгновение он оттолкнул меня,
потом подошел. Я всхлипывала и дыхание
у меня прерывалось. «Ты откуда?» —
спросил он. — «Из Ростова, мы шли пешком,
мама врач, честное слово!» Он смотрел на
меня, грязную, заплаканную, с
нечесаными косами, которые были почти
до пояса, в грязном, рваном, когда-то
красивом платьице, на мои ноги в рваных
сандалиях. И что-то в нем дрогнуло. Я это
почувствовала. Он сказал
сопровождавшему красноармейцу: «ПОМЕСТИТЕ
ИХ в 3-й пульман, если их только двое».
Что со мной случилось?! Я бросилась на
колени, обнимая его пыльные сапоги,
рыдая взахлеб. Он поднял меня с колен,
посмотрел в мое лицо так, что и сейчас,
закрывая глаза, я помню его взгляд,
полный сочувствия, горести, добра.
Сказал: «Война, война!» и пошел. А я
пошла с санитаром к маме, боясь не найти
ее опять в этой толчее, и еще больше
боясь, что она не дождалась. Мы нашли
маму. Санитар поднял ее, исхудавшую, но
с налитыми ногами, подхватил ее
подмышки. Спросил: «Ногами-то
передвигать можете?» Я схватила все,
что у нас было, засунула в сумку и пошла,
поддерживая маму с другой стороны и
продолжая всхлипывать. Так мы дошли до
состава. Санитар и еще один
красноармеец с трудом затащили маму на
пульман. Оказывается, этот вагон был
гружен каким-то оборудованием без
ящиков, оборудование было замотано в
простыни. Набит он был до отказа. А в
щели между оборудованием были насыпаны
зерна, похожие на кофе, но это были
зерна касторового масла — семена
клещевины. Все это я увидела и узнала
позже. Но тогда, забросив свое барахло
маме, я должна была принести воды и
спросила: «Где мне взять воду? Я успею?»
В ответ санитар, который годился мне в
отцы, сказал: «Успеешь, дочка. Мы еще
простоим здесь незнамо сколько, если
немец не разбомбит, еще впереди пути
ремонтируют». Я поблагодарила санитара
и пошла искать воду. Жара стояла
невыносимая. За все время, что мы шли, не
было ни одного дождя. Кран с водой
охранял красноармеец. Стояла огромная
очередь. Это было единственное место,
где можно было взять воду. Подъезжали
военные и санитарные машины,
накачивали свои баки водой. Люди
набирали воду в ведра, бидоны. Я стояла
со своей миской. Когда, наконец, дошла
моя очередь, я напилась и, набрав полную
миску, пошла держа ее обеими руками. Я
вспомнила, как всего неполных два
месяца назад, в колхозе, так же шла с
миской, наполненной молоком, когда мы
меняли на продукты свое барахлишко и
даже пионерские галстуки. «Где вы
сейчас, девочки с нашей школы?» и
повторила слова «моего начальника» —
дяденьки, который по сути спас нас: «Война,
война!». С трудом я поднялась с миской
по скобам вагона и опустилась рядом с
мамой, лежавшей у стеночки вагона на
одеяле, которым были прикрыты
коричневые зерна. Зерен было так много,
что стены возвышались над ними не более
чем на полметра. День был так тяжел, что
чуть перекусив, мы легли рядышком и
уснули, хотя было тоскливо на душе из-за
болезни мамы. Но она немного отошла. Она
могла лечь, вытянуть ноги. Сколько мы
спали — трудно сказать. Я проснулась от
сильного стука буферов состава. Было
совсем темно. На небе ни луны, ни звезд.
Поезд набирал скорость, я слышала стук
колес и долго не могла понять, где мы. И
вдруг блеснула молния, прогремел гром и
полил дождь, сильный и долгожданный. Я
вытащила из-под мамы байковое одеяло и
мы легли прямо на зерна, прижав сумку с
документами, прикрывшись одеялом. Я
хотела вытащить еще одно одеяло, но оно
не поддавалось, вдобавок я услышала
грубый мужской голос: «Куда?» Было
темно. Я ничего не видела вокруг, но
поезд шел и уносил нас все дальше и
дальше от страшных мест, и я снова
уснула, почувствовав тепло маминого
тела. Когда утром я открыла глаза, я
увидела рядом с нами людей, лежавших и
сидевших. Они полностью заполнили все
пространство вагона на зернах,
прикрываясь мокрыми одеялами. Но
солнце уже светило и становилось жарко.
Через щели было видно, что все крыши
состава заполнены беженцами. Так мы
доехали до Махачкалы. Поезд шел без
остановок. Мы почти все время спали.
Когда мы не без труда и при помощи
попутчиков спустились на землю, мы
увидели несколько разрушенных зданий.
Значит и этот город бомбили. Мама,
опершись на меня, попробовала пойти и
мы медленно двинулись. Уйдя от вокзала
подальше, зашли в садик, на скамейке
перекусили. Рядом с нами сидела семья
беженцев — мама и трое ее детей из
Бердянска. Старшей девочке было лет 12-13.
Они были здесь уже больше недели и
рассказали нам, что в городе есть пункт
регистрации беженцев, там можно
получить продкарточки и отоварить их в
магазине. Они ждали пароход, который
должен придти из Баку и перевезти людей
в Красноводск. В порту они купили
билеты на него по регистрационному
номеру. Но прошло уже 3 дня, а парохода
нет. Город наводнен беженцами. Цены на
рынке сумасшедшие, но есть столовые,
где можно поесть за карточные талоны, и
цены сносные. Есть в городе баня, но там
большие очереди. Вся эта информация нам
пригодилась. Мама стала приходить в
себя, но ноги были по-прежнему сильно
отекшие. Надо было найти аптеку и
купить лекарство и я пошла искать.
Потом привела туда маму. Нужен был
рецепт. Мама показывала свои документы,
отпускную справку из госпиталя, где
было написано, что она врач. Но 2 недели
отпуска, которые ей дали, давно прошли.
Она показывала свои ноги. В конце
концов лекарства мы купили и она их
начала принимать. Потом я разыскала
пункт регистрации и мы поплелись туда.
Там была дикая очередь и мы попали
только на другой день, переспав по
привычке на улице в садике. После
регистрации и получения карточек мы
решили пойти в баню. Но сначала нужно
было раздобыть нам по платью, потому
что вид наш был жалок. Увы, когда я,
оставив маму в облюбованном садике,
пошла на базар, где, как мне сказали,
есть и «барахолка», я поняла, что наших
денег на приобретение даже поношенных
платьев не хватит. В столовых также
нужно было стоять 2-3 часа, чтобы поесть
«брандахлыст» (так там называли обед), и
при этом из карточек вырезались талоны
на мясо, масло, крупы, сахар и т.д. Всюду,
куда я хотела обратиться, были очереди,
потому что таких как мы было множество:
сотни, тысячи, а может быть и миллион. На
всех улицах, в садиках и прочих местах
сидели, лежали, жили под простынями на 4-х
палках беженцы, с детьми, с тюками и
скарбом. Беженцы прибывали, а Махачкала
была тупиком, дальше поезда не ходили.
Пароход из Баку все еще не прибыл. В
довершение на 3-й или 4-й день раздался
сигнал воздушной тревоги, и город
бомбили немецкие самолеты, пострадали
несколько зданий, в том числе и порт. И
все-таки после отбоя я побежала туда
записываться в очередь на пароход. На
кассе висело объявление: «Пароход из
Баку не прибудет». Запись не
производилась, билеты не продавали. В
порту было много беженцев. Они
требовали портовое начальство.
Требовали любым путем отправить их из
Махачкалы. Я слышала, как они кричали,
что в городе уже нечего кушать, город
грязный, не хватает продуктов по
карточкам, что стоит ужасная жара и уже
есть случаи дизентерии. До чего
докричались, я уже не слышала, потому
что убежала к маме, она стояла в очереди
в баню. На другое утро мы отправились в
горздравотдел, где мама надеялась
продлить свой отпуск или как-то
оформить документы. Она очень
беспокоилась, что в ее трудовой книжке
нет никаких пометок нашего бегства, нет
эвакуационного удостоверения. Она
ходила по кабинетам впустую, в городе
началась паника, эвакуация и трудно
было от кого-нибудь добиться толку. И
все-таки она получила справку, что «проездом»
она была в г. Махачкале и направляется к
своему госпиталю в г. Новосибирск, и что
при ней ее дочь. То ли мама так сказала,
то ли справкодатель сам так придумал,
но документ был на фирменном листке с
печатью. В горздраве нам посоветовали
обратиться в портовую поликлинику, в
которой размещался госпиталь
тяжелораненых, готовящийся к эвакуации.
Мы сразу туда направились. Когда мы
пришли в порт и прошли в самый конец
причала, где находился госпиталь, мы
увидели, как от причала отходит баржа,
чем-то груженая, а на ее палубе сотни
две беженцев, и столько же не
поместившихся еще остались на причале.
Оказывается, за деньги все же можно
было уехать из Махачкалы. Когда я
увидела уже уходящего работника порта,
отличив его по одежде, я догнала его и
стала умолять отправить нас, обещая
отдать ему все деньги, которые у нас
есть. Он ответил, что у него нет команды,
чтобы снарядить еще одну баржу и
показал на 2 баржи, тоже уже груженные,
но второй день стоявшие на приколе. Мы
пошли в госпиталь. Никто не хотел нас
слушать. Был полный беспорядок. Раненые,
которые могли двигаться, — помогали
медперсоналу. Наконец, посылаемые от
одного «начальника» к другому, мы
увидели дверь с надписью: «Начальник
госпиталя №...» А.И. Каплан. Это оказался
мамин знакомый. Надежда в нас
загорелась. Но он ничем не мог нам
помочь. Для эвакуации госпиталя был
предназначен пароход, который теперь
не прибудет. Он рассказал, что этот
пароход, вышедший из Баку, был потоплен
немецкими бомбардировщиками. Во время
разговора зашел тот самый работник
порта, которого я упрашивала нас
отправить. Он стал просить Каплана
собрать ему хоть из раненых, хоть из
персонала вспомогательных рабочих в
команду для отправки еще одной уже
груженной баржи. Рулевой, штурман и
специалисты вождения у него были.
Каплан обещал выделить трех-четырех
человек и попросил взять на баржу нас и
еще несколько тяжелораненых. Этот тип,
буду называть его так, косо посмотрел
на нас и спросил: «От немцев драпаете?»
В его тоне явно был насмешливый оттенок.
Я, конечно, тогда не могла понять
антисемитский выпад. Но теперь я это
хорошо понимаю. Каплан сразу же стал
объяснять, что мама — это врач и он
просто советует взять нас, а девушка, т.е.
я, тоже может пригодиться, в чем-то
поможет, она уже взрослая. Сказал, что
мы идем пешком из Ростова, поэтому у нас
такой вид, но он даст нам что-нибудь
накинуть сверху. Тогда этот тип спросил
у меня, сколько мне лет и я выпалила — 16,
т.к. меня назвали взрослой, а мама
добавила: «Еще не исполнилось...» В эти
минуты решалась наша судьба и я искала
хоть намек, хоть самый маленький
призрак «солнечного зайчика». Увы!
Нигде я его не увидела. А мама вынула
справку и в оправдание ее показала. Он
попросил еще какие-то документы, и мама
достала свой паспорт, в котором я была
записана как Софер Алла, 1927 г. рожд. Тип
усмехнулся, но уже дружелюбно сказал: «Хорошо».
И, обращаясь к Каплану, сказал также: «С
матерью вы разберитесь, а девочку я
оформлю сторожем. По крайней мере, дам
ей брезентовую плащ-накидку. Ночью на
море холодный ветер». Потом он
обратился к нам и сказал, чтобы в 10
часов вечера мы подошли к причалу № ... (не
помню). Мы благодарили его и Каплана,
мама даже от напряжения прослезилась.
Нервы ее были на пределе. Каплан тогда
дал маме гимнастерку, естественно
старую, но выстиранную, а мне — серый
халат с длинными рукавами. Мы
распрощались с Капланом и т.к. все вещи
были с нами, решили дождаться вечера в
порту, боясь уйти и пропустить баржу.
Часов у нас не было, мы расположились
недалеко от того места, куда должны
были подойти к 10 вечера. Очень скоро,
еще даже не начало темнеть, мы увидели
движение на этом месте. Подъехала
машина и на носилках раненых начали
переносить на баржу. Наш знакомый
командовал. Мы подошли к нему. Увидев
нас, он отмахнулся: «Рано, рано, я сказал
к10 вечера». Но мы не отошли. Очень скоро
к этому пирсу стал собираться народ, у
некоторых были билеты на потопленный
пароход, они требовали отправить их. Но
были и другие, без билетов, и их
становилось все больше и больше. Нас
начали отталкивать. Мы, цепляясь за
металлическую ограду, пытались
удержаться на месте и очень крепко
держались друг за друга. Вскоре
появились милиционеры. Они всех
оттеснили и закрыли ворота в ограде. Но
когда выезжала машина и ворота снова
открылись, толпа хлынула на причал,
повалив часть ограды. Мы оказались в
этой куче. Нас просто несла толпа, крича
и расталкивая друг друга, кто-то падал,
и следующие бежали по ним. Это было так
страшно, что мы пытались высвободиться
из толпы, но это оказалось невозможным.
Толпа вынесла нас к трапу, где скорость
резко снизилась. Через несколько минут
под ногами у нас оказался
металлический пол — мы были уже на
барже. Нас прижали к каким-то ящикам, и
вдруг мы почувствовали, как палуба
уходит у нас из-под ног. Баржа сильно
наклонилась, послышался шум двигателя,
гудки, и мы отошли от причала. Все, кто
был в этот момент на трапе и около,
попадали в воду. Крики людей еще долго
стояли у нас в ушах. Перегруженная
баржа качалась на волнах и вода
заливала пол. Уже после отплытия баржи
на лодке подошли к ней капитан, рулевой,
наш знакомый и недостающая команда — в
основном, женщины. Уже никто не пытался
освободиться от штурмом взявшего баржу
народа. Капитан только распределил
всех равномерно (а может, в зависимости
от положения устойчивости). Наш
знакомый нас не увидел, да и не искал и
уж, конечно, никакой брезентовой
накидки не принес. Он спустился в
шлюпку и отплыл на берег. И едва только
наступили сумерки. баржа вышла в море. Вот так
распорядилась судьба. Если бы мы пришли
к 10 ч вечера, быть бы нам в Махачкале еще
неведомо сколько. Я уже не помню, одну
ночь или две ночи мы пересекали
Каспийское море. Днем была ужасная жара,
ночью мы мерзли от ветра с холодными
водяными брызгами. Раненые лежали на
носилках или просто на мокрых матрацах,
стонали. С ними был один врач или
санитар, трудно сказать, он ходил от
одного к другому и, в основном, отбирал
умерших. Их сбрасывали в море. Всякий
раз мама отворачивала мою голову и
прижимала к себе. По лицу ее текли слезы,
она шептала: «Левочка, Левочка, где же
ты сейчас, что с тобой?» И я уходила в
своих мыслях к воспоминаниям о Леве, об
Адике, о Симочке, обо всех ребятах из
класса, и ужас охватывал меня от
сознания, что немцы в Ростове, и по всей
земле СССР идет война. Днем мама встала
и подошла к «врачу», чтобы чем-то помочь
ему, но он только махнул рукой. Лекарств
не было, продукты не успели забросить
на баржу. Можно было только попоить
раненых водой, что мы и делали. Другие
пассажиры поили водой тех раненых,
которые лежали около них. Так мы добрались
до Красноводска. Мы увидели город,
который поднимался над морем белыми
маленькими домиками на красного цвета
горе, за которой было синее-синее небо.
И если бы не было войны... Но война была,
и в Красноводске Туркменской СССР была
тоже масса беженцев, но город еще ни
разу не бомбили, железная дорога
функционировала, конечно, в
соответствии с военным временем. В
городе работали все советские
учреждения, на улицах гремели
радиорупоры и можно было услышать
последние известия «от Советского
Информбюро». Был пункт регистрации
беженцев, куда мы и поспешили сразу. Там
мы получили бумагу, по которой могли
купить билеты до г. Новосибирска. Мы
хотели купить билеты, а на оставшиеся
деньги и на карточки раздобыть еду. На
вокзале пыл наш быстро охладили —
чтобы купить билеты, нужно было
несколько дней стоять в очереди.
Беженцев отправляли только в товарных
вагонах, стоимость билетов была
мизерная, но их невозможно было
приобрести, и люди покупали у
перекупщиков за бóльшие деньги,
которых у нас не было. Очередь мы заняли.
Она была «живая» и на следующий день не
продвинулась. И тогда мама стала искать
в наших ценных бумагах, что можно
продать, и нашла пачку облигаций и
трудовую сберегательную книжку. По
книжке, оказывается, можно было
получить деньги только в Ростове, но он
был далеко и там были немцы. Облигации
были «Осоавиахима», срок их не вышел и
их не принимали. Мы были без денег. Я не
знала способов их добычи. О работе для
мамы не могло быть и речи. Мне не было 16
лет. Мы решили, что маме нужно пойти в
военкомат и она пошла. Но она не была
военнообязанной, и там нам помочь ничем
не могли. Тогда она пошла в
горздравотдел и там тоже ничего не
получилось. Осталось одно — ждать
своей очереди. Денег на билеты хватало,
но сколько дней еще нужно провести под
открытым небом, на что питаться —
неизвестно. Город был грязный, жара
стояла невыносимая. Воду можно было
достать только из источника, который
был за городом. Я ходила «по воду» в
общем потоке беженцев по 2 км в одну
сторону два раза в день, неся в руках
перед собой миску. Но немцы были далеко,
хотя последние известия ничего
хорошего и успокоительного не
приносили. Мы обосновались на вокзале,
в духоте, но по крайней мере, на
скамейке. Кроме того, нужно было
отмечаться в очереди за билетами,
участвовать в перекличках у кассы. Не
помню, сколько дней мы там пробыли. В
счастливый день подошел к нам военный
паренек, очень симпатичный, еврей, и
сказал нам такие слова: «Идите на 3 путь,
через несколько минут отправится
состав до Новосибирска. Билеты уже
проверили, а в товарных вагонах нет
проводников, залезайте в любой. Я вам
помогу». — «Но у нас нет билетов», —
сказала мама. — «И не нужно, не бойтесь,
не высадят». Мы пошли с ним. Звали его
Миша. Мы познакомились. Шли мимо
вагонов, двери (ворота) были открыты, в
вагонах много людей, в один из них он
помог нам забраться, и через минуту
поезд закачался и рванул так, что мы
чуть не упали. Он без гудка тронулся в
путь. Миша бежал рядом, что-то говорил,
но не было слышно. Больше мы с ним
никогда не виделись. Но для меня имя «Миша»
на всю жизнь осталось именем моего,
личного, Бога, если можно так
выразиться. Когда мне плохо, тоскливо и
хочется плакать, я в душе обращаюсь к
нему: «Миша, помоги мне», хотя лица его
не помню. |
||||