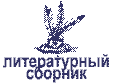|
Вероятно, художественное вдохновение само по себе, независимо от «материала», с которым работает художник, никогда еще не получало такого духовного оправдания из уст христианского пастыря. Нам в России хорошо известно осторожное (если не сказать больше) церковное отношение к личному творчеству и к «духу», которым оно питается, выраженное, среди других, в трудах о. Павла Флоренского; знакома неприязнь к светским упражнениям на духовные темы (критика Державинской оды «Бог» у святителя Игнатия Брянчанинова). В послании Иоанна Павла II мы встречаемся с безусловным доверием к духовному источнику искусства: «Дух [Творящий Дух, Creator Spiritus] — таинственный Художник вселенной. Глядя в третье тысячелетие, я хотел бы пожелать, чтобы вы могли в изобилии получать дар творческих озарений, в которых коренится всякое создание подлинного искусства» (15). «Дух — художник», утверждает папа Иоанн Павел II, следуя в этом Священному Писанию и литургическим гимнам (на славянском языке мы встретим здесь слово «Всехитрец», т. е. художник всего). Бог Иоанна Павла — «Творец великой поэзии», как на свободном языке лирики писал Карол Войтыла в своих юношеских стихах:
Мы помним, конечно, что словом Творец переведено на славянский греческое poietes, но сами слова «поэт» и «поэзия» располагаются в русском языке как-то слишком далеко от того, что относят к «духовному». Мы привыкли думать (и автор этих заметок не меньше других), что там, где звучат псалтырь и гусли Давида, лира Аполлона и флейта Диониса, вообще говоря, упраздняются. За этой привычкой различать нетрудно и вообще забыть, что псалтырь, гусли, тимпаны и кимвалы были в самом деле музыкальными инструментами, а не метафорами, как в барочном красноречии. Они издавали вполне реальный звук, и тембр этого звука, как видно из вводных стихов псалмов, был небезразличен их автору. Он держал в уме оркестровку /3/. (3. Позволю себе - в связи с
музыкальными орудиями - личное
отступление. Однажды, когда я
обзавелась фортепиано, моя бабушка,
человек глубоко верующий и не слишком
образованный (все ее формальное
образование составляла церковно-приходская
школа) сказала: "Ну вот, теперь будешь
славить Бога на фортепианах!" "Ты
что! - удивилась я, читательница
Флоренского, - это светский инструмент,
как же на нем Мы так твердо провели границу сакрального и профанного — через инструменты и жанры, цвета и линии, ритмы и звуки... Светское искусство — все — осталось по ту сторону границы, на равнине профанного, и это еще не худшее, что может с ним случиться: вообще-то его частенько готовы отправить в яму и пропасть демонического. Апология служения красоте — спасающей красоте, как вслед за Достоевским утверждает Иоанн Павел II, — центральная мысль послания. Художественное творчество наделяется в нем высочайшим достоинством: именно здесь, по словам Послания, исполняется замысел Божий о человеке, здесь, «как нигде больше, человек открывается как образ Божий» (1), образ Бога Творца; наконец, Воплощение открывает художнику дар «новой красоты». (выделено ред.).Момент вдохновения именуется «епифанией (богоявлением) красоты», а плод вдохновения, произведение, даже если непосредственно тему его, «сюжет», составляет зло и порок, несет в себе свидетельство «всеобщей жажды спасения» (10). Итак, послание Иоанна Павла II обращено к людям, «кто страстно и жертвенно ищет новых „епифаний" красоты, с тем чтобы, воплотив их в художественном создании, принести в дар человечеству». И здесь неминуемо встает печальный вопрос: а где эти люди? Да, таков истинный художник, — но не поставила ли наша современность — устами своих многочисленных авторитетов — под вопрос и возможность рождать таких художников (известный лозунг «смерти автора»), и самую реальность различения «истинного» и «подделки» (пресловутый «симулякр»), дара и бездарности, уникального и тиражированного, и какой бы то ни было контакт с «иным» (а классическое вдохновение всегда описывалось как явление «иного»). Да и кто в качестве цели творчества полагает теперь «принесение дара» миру, кто думает одарять, а не бросать вызов, не самовыражаться и т. п.? Бетховен, несомненно, принял бы эти слова как свои: откровение красоты, жертвенное служение ей, приношение ее в дар человечеству. Но современные художники, признают ли они себя в этом описании? Не отнесут ли они такой образ творческого человека к преодоленному романтизму? Так ли они видят собственное призвание (если само слово «призвание» употребимо в новейшем гиперкритичном, демифологизирующем дискурсе) — и, следовательно, могут ли они отнести к себе это пасхальное послание? Я перебираю в уме признанных людей современного искусства, его ведущих мастеров: кто из них назвал бы себя служителем красоты? Для кого сами эти вещи — красота, вдохновение, дар, творчество наконец,— остаются реальными? И если не в этом, в чем видят они интенцию собственных работ? Некоторые из широко распространенных мотиваций эстетической деятельности вспоминаются сразу: служение языку (что уже кажется несколько консервативной установкой); деструкция старых мифов и иллюзий; обличение лжи и зла; «отстранение», поддержание некоей социальной игры; самовыражение и автотерапия, освобождение от личных "травм" /4/; эпатаж и провокакия, шоковое воздействие на публику; утверждение себя в качестве "человека искусства"... Вот, кажется, и весь веер возможностей актуального художника. (4. Между прочим, идея творчества как «исповеди», как обнажения пред миром «неправедных изгибов» собственной души связана с исчезновением института исповеди: то, что было бы уместно в таком общении и завершалось бы разрешением, выносится перед публичным вниманием; но публика ведь не отпускает грехов! Кроме того, ее привычка к таким самообличениям как художественному акту лишает это предприятие достоинства отчаянной смелости.) Местные российские условия прибавят к этому «позитивный» вариант: патриотическое служение. Но ни одна из названных мотиваций никаким образом не соприкасается с «епифанией красоты». Не удивительно ли это? Красота, которую некогда пришлось бы защищать от религиозной установки определенного рода (моралистской или аскетической), сегодня находит себе вдохновенного защитника в лице Предстоятеля Римской Церкви — а первыми среди ее отрицателей и сокрушителей окажутся сами современные мастера искусства, радикально секулярные художники. Красота, которую безнадежно путают с «красивостью», практически не дозволяется художнику, который надеется быть «современным». Свободное творчество, вызывавшее (и продолжающее вызывать — во всяком случае, в нашей церковной публицистике) серьезные подозрения относительно своей духовной доброкачественности, Иоанн Павел П оправдывает и прославляет самым решительным образом. И кто же, как не современные художники и теоретики искусства, не устают утверждать иллюзорность художественного смысла? Ту же перевернутую диспозицию мы увидим и в том, что касается дара, художнического избранничества и других традиционных составных «парнасской веры». И быть может, никогда еще искусство в своей практике так далеко не уходило от собственных традиционных форм и задач. Говоря «традиционных», я отдаю себе отчет в том, что традиционность европейского искусства всегда ( или, всяком случае, со времен Данте) была проблемной традиционностью, и пафос преодоления предшественников, или, в современных терминах, «страх влияния», стремление к новому, «лучшему» и «своему» явно преобладали над пафосом простого почтительного продолжения. Но именно в утрате самой этой проблемности наследования, в изменении вектора отталкивания от наличного («повторить, но еще шибче, еще горячее», словами Пастернака) и заключается, на мой взгляд, глубочайшая нетрадиционность актуальной творческой ситуации. Во всяком случае, в своей радикальной версии постмодернизма (а "именно постмодернистская установка последние двадцать лет представляет себя профессионалом «современности», оставляя другим место маргиналов и дилетантов) искусство беспроблемно отказывается от наследования традиционной жажды нового, от самой возможности нового, от творчества как образа жизни, а не изготовления эстетических вещей (собственно говоря, контрэстетических антивещей). И вектор его отталкивания от прошлого — не «вверх» и «вперед», не «шибче и горячее», а точно наоборот: к «смиренному» признанию исчерпанности человека, истории, всех культурных форм и смыслов, которые нам — «после всего» — остается только деструктурировать. В этой нынешней ситуации почти тотального скепсиса по поводу «дара», «вдохновения», «красоты» и должно прозвучать обращение из Ватиканского дворца, исполненное традиционной веры в возможности искусства И таинственную силу красоты. Со времен гуманизма и Возрождения творчество, и особенно художественное творчество было своего рода «параллельной религией», «светским культом» со своими «подвижниками», «святыми» и «мучениками», которым, как Шопену или Пушкину, Ван Гогу или Микеланджело, принадлежало совершенно особое место и в сердце частного человека, и в сердце народа. Их любили другой, но не менее интимной любовью, чем великих святых, заступников за человека. К ним не обращались с молитвой, но они обращались к нам из своих созвучий, строф, форм, умножая область свободы и бескорыстия в обыденном мире расчета и необходимости. Их создания вносили тепло родины в холодный мир. Наконец, жизнь художника — как она предстает в его произведениях — была образцом искренней жизни, открытой и в своих немощах, и в своих заблуждениях, можно сказать, эсхатологическим образом жизни. И эта только в искусстве возможная искренность, совпадение человека с собой и превосхождение себя и были дороги тем, кто любил искусство, — в своем роде как чистота святого. Мы оказались свидетелями того, как само искусство — в лице своих деятелей и теоретиков — сменило свою «парнасскую веру» на «парнасский атеизм». Сами поэты «смиренно» и фаталистично говорят о «смерти поэзии», об «уходе поэзии из нашей цивилизации». Значение и последствия этого отречения — и для искусства, и для общества, и для отдельного человека — трудно переоценить. У нас уже есть некоторый опыт того, что такое «постцерковное общество» — каким будет общество радикально «поствдохновенное», страшно представить. Причины этого срыва остается обдумывать. Но, быть может, разуверение искусства в собственной «священной» ценности, в собственной таинственной глубине и составляет теперь главное препятствие к тому диалогу, к которому призывает Иоанн Павел II, к встрече с опытом веры, с Церковью. Ведь именно в двадцатом веке, в эпоху «великой апостасии» европейского общества самые вдохновенные художники с какой-то естественной простотой («как огню свойственно стремиться вверх и воде падать», словами Данта) возвращались в мир «последних вещей» христианской веры. Одно вдохновение сливалось с другим, как это выражено в названии одной из «Больших од» Поля Клоделя: «Муза, которая есть благодать». Болезненное, «травмированное», «проблемное», герметически замкнутое в себе «я» художника постмодернистской эпохи не испытывает никакого притяжения этой высоты, этой глубины. Одно из самых удивительных положений, высказанных в Послании, связано с антропологической перспективой искусства, с которой мы начали. Быть может, здесь мы найдем и ключ к тому, чего лишается искусство, перестающее надеяться на «епифанию красоты» — и при этом продолжающее производить «эстетические вещи». В первой главе Послания, обсуждая сущностное различие божественного Творения и человеческого творчества (как творчества не «из ничего», а из « уже существующего»), Иоанн Павел II определяет эту «уже существующую» материю, вещество, с которым работает художник-человек: «он исполняет эту задачу, работая с изумительным „веществом" собственной человечности». Прежде того, что считают собственно «материалом» отдельных искусств (словами, или звуками, или цветами), художник берется за первое вещество — человечность, собственную человеческую природу! Он находит или освобождает в себе, словами Симоны Вейль, «то „я", выражением которого в светской культуре является поэзия». Это «я» — та материя человечности, которая самым интимным образом связана с восхищением и изумлением, admiratio. Такие разные поэты, как Фридрих Гёльдерлин и Осип Мандельштам, настаивали на еще одном качестве «поэтического „я"»: его моментальной невинности, его способности возвращаться к той первоначальной (райской) чистоте, которая выражается в песне. Знаменитые слова о «непристойности поэзии после Аушвица», ставшие лейтмотивом новейшей культурной ситуации, как раз и отрицают возможность освобождения от вины, которая несовместима со свободным вдохновением. Молчание поэтического, и вообще творческого, в актуальной культуре говорит ни больше ни меньше о том, что утрачено это «я», это «изумительное „вещество" человечности». Совсем просто выразил это Пауль Целан: «Нет людей, поэтому нет и стихов». И в связи с этим мне кажется, что на последний вопрос Послания — «Нуждается ли искусство в Церкви?» — должен был бы последовать самый решительный утвердительный ответ. Другого источника восстановления этого «изумительного вещества», этого «я», которое освобождено от собственного самоосуждения и потому может высказывать себя свободным творчеством, в радикально секуляризованной культуре нашего времени, по всей видимости, не остается. Для этого Церковь должна дать себя увидеть не как институт, структуру, идеологию, а как бесконечно притягательное «великое сердце святости», «место, которое целит», словами Рильке. Сам Иоанн Павел П своей великой жизнью, в которую входит и это Послание художникам, открывает возможность такого видения. И, возвращаясь к началу Послания. День Пасхи предстает в нем как день мысли о Творении и творчестве: это поразительное совпадение богословской мысли с художественной интуицией поэта! Творение как Воскресение — любимая и многократно выраженная мысль Бориса Пастернака: "Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили" /5/. 5. Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Худож.. литер.» 1990. Т. 3. С. 69. Статья О.А.Седаковой перепечатана из журнала "Новая Европа", №13, 2000, с.18 В Италии: www.augustea.it/nuovaeuropa В России: тел. 9770870, e-mail: rcfond@dnttm.ru niw 13.08.02 |
||