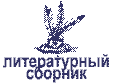|
продолжение Г.С.Померанц. Религия и идеология |
||
|
"Он говорил, видя перед собой сразу всех, и, может быть, впервые доверялся не себе, а неожиданной, освобождающей власти, которую давали поднятые к нему восторженные лица. Потом, вспоминая, как это было, он сравнивал возникавшее тогда чувство с той внезапной радостью и свободой, что приходила от матери. И решил, что от матери было иначе. Она как бы возвращала его в себя, отгораживала от мира, и радость была от того, что вдруг на миг обретал мать, и покой был, и благость. А тогда, на Дворцовой площади, произнеся первую в своей жизни речь, он словно перестал быть тем, кем был до этого, и стал кем-то другим, кто вмещал не то, что прожил до сих пор, а наоборот — освобождал его от всего и вмещал только эту толпу. Он как бы был ею и в то же время выше ее. От этого тоже приходила свобода, но это было освобождением не от внешнего, а от самого себя. И не радость, а если радость, то от сознания своей силы и всеумения и даже могущества, — а той, материнской свободы, чувства беспомощности и неотделимости от мира, над которым тогда на Дворцовой он почувствовал свою власть." Один экстаз растворяет личность в толпе. Другой — наоборот: более тихий, возвращает из толпы личность к себе. И любопытно, что этого не понимают иногда очень умные люди, которые не имели достаточного опыта самоуглубления. Они сводят религию к объекту поклонения, к тому, что создается некоторая устойчивость сознания, и тогда получается, что любой тоталитаризм создает такие феномены. Тут бесполезны формальные доказательства. Один из мистиков Ислама, Хамдани, говорил, что можно понять вкус меда только одним способом: попробовав его. Описать, чем мед •отличается от сахара, невозможно. Правда, можно привести косвенные доказательства. Все великие религии способны к ряду возрождений. Они в своей исторической судьбе иногда коснеют, становятся казенными, сдвигаются в сторону различных грехов. Но сплошь и рядом мы видим там, что засохший посох расцветает. Сплошь и рядом после веков религиозного формализма вдруг возникают искренние душевные движения. И второе: плодотворность в искусстве. Все великие религии как-то связаны с великим искусством. В общем, ни одна безрелигиозная идеология не создала ничего сравнимого по мощи в искусстве и, как правило, она создает в искусстве пустоцветы. Идеология, даже хорошая, не раскрывает глубины. Но если она хорошая — она понимает свое место. Тогда она становится ориентацией в пространстве и времени. Скажем, в наших обстоятельствах одни стоят за рынок, другие против — это, если хотите, тоже идеология, это связано с нашим комплексом идей. Но хорошая идеология понимает свои границы, ее сфера — это ориентация человека в потоке перемен. Вечность — проблема религии. С другой стороны, когда религия пытается регулировать бытовую жизнь, она тоже становится ложной, как становится она ложной в Иране, где сделана попытка вернуть людей к правилам поведения, сейчас совершенно невозможным. Особенно страшна идеология фанатическая, то есть сплав однониточной теории с обрывками религии. То явление, которое в истории религии называется милленаризмом, то есть надеждой покончить с историей, вырваться в какое-то абсолютно совершенное состояние, на уровне чистого интеллекта становится утопией, которая фактически означает нечто очень сходное, тоже проект абсолютно совершенного общества, и во имя этой абсолютной цели становятся допустимыми в глазах ее сторонников любые средства. История на самом деле никогда не может дать совершенства. История всегда дает перекосы. Реальное общество всегда перекошено либо в сторону чрезмерного рационализма, либо иррационализма и поисков целого. Скажем, экономически общество всегда перекошено в сторону эффективности (и, следовательно, свободной инициативы), или в сторону социальной защищенности, которая тормозит инициативу. И принципиально не может быть абсолютно совершенного общества. Наиболее совершенное общество — это общество, сознающее свое несовершенство. И время от времени его исправляющее. Когда же утопия дает великую цель, а та оправдывает все средства, то в конце концов средства становятся подлинной целью, средства поглощают цель, и место фанатиков цели, которые начинали движение, занимают практики средств. Если вы помните роман "Жизнь и судьба", то в нем такого человека, как Крымов, который продолжает верить в цели, во имя которых большевики взяли власть, в конце концов берут на Лубянку и там пытают, чтобы он себя признал шпионом, а власть оказывается в руках людей, которые о цели давно уже не думают, людей средств, людей реального существования аппарата, который для них является целью. Утопия никогда не захватывает народ в нормальном состоянии. Чтобы броситься в утопию, нужно потерять здравый смысл. И такие состояния бывают. И вот здесь решающее — не характер утопии, а состояние народа, Неважно, какая утопия. Может быть, ленинская утопия, может быть, гитлеровская утопия. В том же романе "Жизнь и судьба" Лисе, эсэсовец, разговаривает со старым большевиком Мостовским и очень убедительно ему доказывает, что хотя идеи у них разные, теории разные: у одних расовая, а у других классовая, — а, в общем, государство строят они примерно одинаково, и все те же лагеря, и все то же отсутствие свободы и т.д. К числу идей, вдохновляющих на сооружение немыслимых структур общества, относится, как показал опыт Ирана, и религиозный фундаментализм. Главное — чувство растерянности, которое охватывает народ по любым причинам. В России — от очень тяжкой войны, от утраты веры в царя, в Германии — экономический кризис, на который наложились еще и репарации, чувство обиды за проигранную войну, а в Иране — толчком была неспособность мусульман, вчера еще только видевших женщин в парандже, смотреть американские эротические фильмы. Этот социально-психологический кризис сорвал там всю успешную экономическую реформу. Мне кажется, что мы сейчас недооцениваем опасности попасть из утопии Карла Маркса—Ленина, которая сейчас никого, кроме пенсионеров, не привлекает, к утопии Белова и Шафаревича. Чтобы сохранить здравый смысл, надо освободиться от привычек ненависти, освободиться от чувства обиды, которое ослепляет. Здесь очень важно понять, что ловушки могут быть в стороне, прямо противоположной той, в которой мы попались вчера. Сейчас основное течение общественной мысли идет в сторону религии, в сторону нации. Но повторяю: религиозный фундаментализм, как показывает опыт Ирана, тоже может оказаться путем в утопию. А вместо нации, сплошь и рядом, — попытки возродить племенную замкнутость. И я закончу несколькими соображениями о том, что возрождение национальной жизни не означает вовсе возвращение к племенной замкнутости. Нация вообще — это сравнительно новое явление. Не надо путать ее с тем, что по советскому документу называется национальностью. Нации возникли в Европе примерно в XVI веке на основе единой христианской культуры. Империя не получилась, и сложились самостоятельные национальные, как стали потом говорить, государства. Но эти государства находятся в постоянной перекличке друг с другом. .Черта нации — не только особенность, но и связанность. Это чисто европейское явление. Нельзя считать нацией архаическое царство, например. Московское царство, нельзя считать нацией какое-нибудь архаическое племя. Нация — это категория европейской культуры, к которой постепенно переходят другие, по мере европеизации. Нация — это как бы инструмент в оркестре или голос в хоре. Они постоянно перекликаются друг с другом. Не случайно и национализм и интернационализм — обе эти идеи возникают в Европе. Они как бы оформляют односторонне эту двойственность в жизни нации. Она, с одной стороны, есть нечто, которое можно сравнить с лепестком в большом цветке, а цветок — это европейская, христианская по своим основам культура, а с другой стороны это есть самостоятельный цветок. Без этого единства нет нации, а есть изолированные племена. Если говорить о России, то можно мыслить ее по-разному. Если понимать православие так, как его понимали в Византии, то это опять толкает в сторону немыслимого обособления и замыкания в гордыне "третьего Рима". Что было понятно в те времена, когда эта идея возникла, то сейчас является нелепой идеей. Либо понимать православие, как еще один вариант христианства, как участника единой большой христианской культуры. Тогда открывается духовный путь к тому, что сейчас становится политически возможным, к возникновению единой коалиции северных стран, которая охватит не только Западную Европу, но и весь Север через Россию, включая Америку, что было бы выходом на несколько десятков лет из современного политического кризиса мира, дало бы возможность остановить гонку вооружений... Это чисто практически было бы спасением. Но это было бы и духовным выходом, потому что одной из катастроф последних 70-ти лет был не только разрыв с прошлым. Даже более жестким был разрыв с окружающим миром. Мы же были изолированы от духовных процессов, происходивших на Западе и на Востоке. Мы знали только то, что давно, до революции, перевели на русский язык, и очень процеженно — о духовных процессах, которые шли вокруг нас. На самом деле связь с прошлым и духовными процессами в окружающем мире одинаково необходимы. Это очень широко и верно понимал Александр Владимирович Мень. Он поэтому был убежденным экуменистом. Он не считал, что сейчас уже настало время, чтобы выйти за рамки существующих традиций. Но он стоял за их перекличку, искал пути к возрождению чувства единства всей Европы, продолжая путь, начатый Георгием Петровичем Федотовым в эмиграции. Федотов был одним из первых деятелей русского духовного возрождения. С 1918-го года он участвовал в религиозных подпольных кружках, в 25-м году он был вынужден эмигрировать под угрозой ареста. Но на Западе он очень быстро убедился, что тот национализм, к которому его тянуло в противоположность абстрактному интернационализму большевиков, сам по себе тоже опасен. И под влиянием опыта фашизма и опыта мировой войны он уже в 43-м году пишет: "Проблема, поставленная сейчас жизнью, есть обуздание национального государства, а не одной Германии, как склонны часто упрощать дело". И его идеалом становится большая федерация, а не империя. Что касается русской империи, то он еще в 37-м году считает, что Россия единая и неделимая в принципе может быть восстановлена, если она станет либеральной, внимательной к малым народам и т.д. Но жизнь убедила его, что это невозможно: слишком много накопилось ненависти, так что распад империи неизбежен. Он пишет о том, что вызвало нынешнюю ситуацию: "Два последних царя, воспитанных славянофилами, пытались обрусить империю и вооружили против нее целый ряд ее народов. Национализм оказался одним из ядов, разложивших императорскую Россию. Убаюканные немецкой музыкой и стихами Гете, немцы легче идут на истребление славян. Так и для нас образ Святой Руси облегчал всякое насилие над инородцами. Парадоксальным образом Гете и Толстой делаются в наши дни воспитателями национальной ненависти. Но это уже есть предательство, измена самой национальной культуре... Ненависть к чужому, нелюбовь к своему составляют главный парадокс современного национализма не в одних только фашистах". Увы, и сегодня мы видим это в процессах, развивающихся в России и в союзных республиках. Нужна положительная программа национального как ветви вселенского дерева, уходящего своими корнями в чувство вечного. Лет двадцать тому назад я написал: "Думайте о Боге, пишите по-русски — вот и получится русская культура". У Федотова я нашел очень сходную мысль: "Чтобы жить, человек должен найти утраченные связи с Богом, с душевным миром других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мирах: верхнем и нижнем". Вопрос: Не является ли столь распространенная готовность свидетельством тоски человека по утраченной целостности? Как. вы относитесь к идее Виктора Тернера о коммунитас? Ответ: Он противопоставляет коммунитас и структуру. В книге "Символ и ритуал" это очень хорошие категории. С одной стороны человек должен есть, пить, одеваться, как говорил Маркс — и это породило создание социальных структур, а с другой стороны, человек жаждет человеческого общения (коммунистас). И всякий перегиб вызывает потом реакцию. Все попытки создать чистую коммунитас кончаются анархией, из которой потом вырастает диктатура. Напротив, слишком жесткая структура вызывает тяготение к анархии. Тоталитарные режимы возникают не везде и не всегда. Схема Тернера универсальна. Колебания коммунитас и структуры сходны с колебаниями "иметь" и "быть". У Эриха Фромма, который заимствует эти категории у Габриэля Марселя, иметь — рационально, делится на части, быть — целостная категория. Это два коренных отношения человека к миру. Тоталитаризм — явление не всеобщее, его причины анализируются более специфическими средствами. Нужна ситуация, связанная с растерянностью и полуобразованностью народа. При медленном развитии ситуации люди успевают приспособиться и найти свое царствие внутри. При быстром развитии это не удается. И когда бедствия прогресса затмевают его достижения, и когда люди бросаются за вожаком. И второе условие — появление лидера, который чисто внешне напоминает пророка. Но пророк будит в людях чувство вины, а такой харизматический лидер — чувство обиды, ненависти к общему врагу. Таким врагом в нашем варианте был капитализм, частная собственность и т.д. Общий порыв ненависти позволял даже чего-то достичь на время. И растерявшийся народ легко идет за лидером с демонической энергией. Здесь можно говорить о "черной благодати". В основе ее лежит взрыв темных сил, накопленных массой людей. В странах со спокойным развитием этого не получилось. Более того, этого не получилось в Венгрии, но получилось в Китае. Тут важно сочетание утопической идеи с традициями административного восторга. В Индии никогда не было утопий. В Китае около 2-х тысяч лет назад утопии уже были, были и попытки их осуществить. Но и тогда это был ложный путь. И трудность нашей перестройки в том, что вместо движения вперед мы тоже лезем на стену. Вопрос. За что Иоанн Кронштатский предал анафеме Льва Толстого? Ответ. Эта анафема была принята синодом. Между Толстым и православием был конфликт, связанный с акцентом на этике или с другой, более глубинной стороной религии. Толстой религиозно ограничен. Из всего христианства он увидел только практическую этику. Его поход против литургии напоминает его поход против медицины, оперы, железных дорог и т.д. Он если что уничтожал, то до основания. И тем вызывал возмущение людей, понимавших глубинную суть религии. Но в анафеме была и политическая сторона. Толстой много ошибался и во многом был прав, например, понимал немыслимость войны в современном ему мире. В чем-то он был разрушителем культуры, но некоторые аспекты проповеди Толстого противоречили тогдашнему государству, — а теперь нам близки. Он был почти единственным противником войны (Бердяев и другие ее в общем принимали). Так что в общем все очень сложно. Вопрос. О крещении взрослых интеллигентных людей, не принимающих полностью идею христианского Бога. Ответ. Думаю, большинство относится к крещению серьезно. Принять православие значит принять не только теорию, но и практику: ходить на литургию, прислушиваться к словам духовного отца, с сердечным .вниманием относиться к обрядам и таинствам, наконец, понять молитву и практически молиться. Если серьезно и с некоторым даром к этому отнестись — эти действия раскрывают более глубокие слои души. Символ — единственная возможность описать то, что мы можем пережить, но что — назвать точно нельзя. Это не значит, что высшая реальность нереальна. Она только неописуема. Главное, что толкает людей к религии — это этический кризис, понимание, что безрелигиозная этика уперлась в угрозу хаоса. И в религии часто ищут опору для практического поведения. Александр Мень сохранил многие браки, многих спас от самоубийства. Это часть религиозной традиции — обращение к духовному руководителю. Это черта не всех традиций: протестантизм не знает исповеди и подчеркивает обращение к Библии. Проблема — в восстановлении истинной духовной иерархии, разрушенной рационализмом. Надо восстановить путь в глубину. Можно ли его восстановить самостоятельно или человек должен принять руководство других людей — на этот вопрос нет однозначного ответа. Это зависит от способностей человека и жизненного состояния. В массе лучше всего, когда человек сознает, что принял религию, до которой не может дотянуться. Другой вариант — считать, что, выполняя обряды, ты уже вошел в общину спасенных и дальше можешь воевать с другими общинами (скорее, мусульманская точка зрения). Теперь очень разные варианты обращения, неофитства. Поворот к религии в целом является положительным, но каждый здесь должен найти свой путь в глубину. * *) - текст печатается по книге: Григорий Померанц. Собирание себя. Москва. ЛИА "ДОК" 1993 niw 24.06.01
|