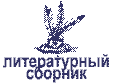|
Григорий Померанц. |
|
|
"Демократия, свобода, права человека" |
|
|
(Эфир "Радио России" 9 января 2000 г.) ВЕДУЩАЯ:
У микрофона Татьяна Касаткина.
Здравствуйте!
Тема
нашей сегодняшней передачи - “Традиции
и права человека”. Что такое
традиции? Можно ли дать им определение,
и какое?
Об
этом я беседую с известным философом
Григорием Померанцем и ведущим научным
сотрудником Института Востоковедения,
доктором исторических наук Андреем
Зубовым.
У
микрофона Григорий Померанц.
ПОМЕРАНЦ:
Традиции - это то, что передается нам из
прошлого, как живой опыт и как опыт,
записанный в языке и формах культуры.
Они выполняют приблизительно ту же
роль, что инстинкт у животных.
КАСАТКИНА:
То есть некоторые консервативные формы,
которые позволяют поддерживать
общество в каком-то более или менее
стабильном состоянии?
ПОМЕРАНЦ:
Это те формы жизни (и хорошие, и плохие),
которые мы получили уже в наследство от
прошлого. Традиции не обязательно
хорошие. Это просто совокупность того,
что досталось нам в наследство. Человек
отличается от животного тем, что помимо
генной информации, для него очень
большую роль играет информация
культуры. Ведь традиции - это как бы
культура прошлого, действующего в
настоящем. И не случайно, слово “традиция”
часто идет с прилагательным “культурная”
- “культурная традиция”. Потому что
культура имеет как бы два аспекта. Это
есть нечто живое, существующее сейчас,
но в то же время есть нечто уходящее
своими корнями в очень глубокое
прошлое. Вот новый подход к определению.
Тот аспект культуры, который является
как бы корнем, уходящим в прошлое, и
есть традиция.
Конечно,
часть традиций - это традиция
законности, традиция права. И понятие “право
человека” - это как ветвь на древе
закона. Понятие “право человека” было
бы невозможно без общего представления
о правах. Это часть традиций, часть того,
что входит в европейское понятие
свободы, то есть это свобода,
основанная на уважении к свободе
другого существа, основанная на
уважении к закону, гарантирующему
данные свободы. То есть какая-то часть
предания - это совокупность норм,
гарантирующих свободу человека,
защищающих его от насилия со стороны
других людей.
Далеко
не каждая культура это признавала.
Например, традиционная китайская
культура достигла очень высокого
уровня, но понятия о правах человека в
ней нет. И сейчас, я думаю, для китайца -
это иностранное понятие.
Права
человека, скажем прямо, - понятие
западное. Оно вряд ли когда-нибудь
могло родиться в России. Федотов об
этом очень четко написал в одной своей
очень хорошей статье. В ней он
объясняет различие между европейским
понятием свободы и русским понятием
воли. Русское понятие воли означает:
делай, что хочешь. С одной стороны, это
воля разбойника, а с другой, - воля
деспота. И русская история - это переход
от периода разбоя (Смутное время,
разинщина, пугачевщина) к деспотизму.
Свобода же основана на очень жесткой
школе закона. Прежде чем европейцы
стали в массе увлекаться идеями
свободы, они прошли через пару веков
абсолютистской королевской законности,
через которую Россия не проходила.
Русские
императоры, даже носившие уже
европейские мундиры, отличались от
западных королей. Ни один европейский
государь не позволил бы себе то, что
позволил Павел I. Когда ему кто-то
сказал, что он недавно говорил с одним
значительным лицом, Павел перебил его
словами, что “у нас есть только одно
значительное лицо - то, с которым я
сейчас разговариваю, и до тех пор, пока
я с ним разговариваю”. Это уже не
европейская традиция, а совсем иная.
КАСАТКИНА:
Право человека не возникло как нечто
спущенное сверху или явившееся снизу,
сбоку и т.п. Оно явилось естественным
развитием традиций определенных стран.
Это так?
ПОМЕРАНЦ:
Да, права человека сложились
совершенно органично как результат
развития правового сознания в западных
цивилизациях.
КАСАТКИНА:
Почему западных? Почему Россия выпала
из этого поля? Почему развитие традиций
в Китае пошло совсем иным путем?
ПОМЕРАНЦ:
Вообще, каждая культура может
держаться на каких-то гарантиях
сохранения культуры. В китайской
традиции это держится на уважении к
документу. В Китае все написанное -
священно. Даже черновики не
выбрасываются просто так, тем более не
используются в отхожем месте.
Последователь учения Конфуция раз в
год сжигает черновики на жертвеннике. В
Китае никто не был гарантирован от того,
что его не будут бить палками, не
кастрируют и т.д. Но написанное слово -
свято. В Индии гарантия культуры -
неприкосновенность брахмана. Убить
брахмана считается величайшим грехом.
Ну а брахманы уже непосредственно
являются носителями вершин индийской
культуры.
В
Европе гарантиями культуры были права
верхнего класса. Меньшими правами
обладал подданный. Никакими правами не
обладал раб. Но римского гражданина,
скажем, нельзя было наказать плетьми.
Рыцаря тоже нельзя было выпороть. Ему
можно было отрубить голову за
преступление, но выпороть его было
нельзя. И вот это представление, что
есть социальный уровень, на котором
человек защищен от грубого насилия, оно
в какой-то степени переносилось и на
духовную элиту. Скажем, Спиноза или
Лессинг не были дворянами, рыцарями, но
представление о том, что духовную элиту
тоже как-то защищает дух закона,
существовало. И, кажется, Герцен
заметил, что Спинозу не гнали сквозь
строй, Лессинга не отдали в солдаты, как
у нас было, например, с Полежаевым,
Шевченко и т.д. И вот на этом фоне
развиваются далее права человека.
С чего
начались права человека на новом витке,
уже после периода варваров? Все
началось в Англии с гарантии лордам,
что их нельзя казнить без суда. Это
первое. Лорды были отнюдь не самым
несчастным слоем английского общества.
Наоборот, это был высший класс. Но они
сумели себя защитить и отстоять свое
право. Постепенно это начало
распространяться не только на лордов. И
уже в XVII веке это распространилось уже
на всех граждан. В таком же духе шло
развитие всей Европы. Права,
завоеванные себе феодальной знатью,
постепенно распространились на всех
граждан. Само обращение “мисьё” во
Франции означает “мой сеньор”, “мой
господин”. Так же и польское “пан”.
Это не только условность. Господин - это
обращение к каждому и распространение
сверху вниз гарантий некоторых
минимальных прав. Таков подход
европейского развития; и так шаг за
шагом это распространялось во всех
областях.
КАСАТКИНА:
Таким образом, получается, что понятие
“права человека” для Запада
естественно, и вытекло оно из западных
традиций. Но оно чуждо, скажем, Китаю и
даже России и является наносным,
навязанным им.
ПОМЕРАНЦ:
Для России это не более наносное, чем
все прочее, что ввел Петр Великий. Уже в
XVIII веке вестернизация обернулась
правами человека, правда, только
правами дворянина.
Мужиков
же пороли и в 1905 году, хотя крепостное
право было отменено. Ну, скажем, после
того, как пожгут мужики какую-то
усадьбу, карательная команда не
расстреливала их, а порола, то есть
продолжала действовать методами
крепостного права. Считалось, что
мужиков пороть можно. И во время
гражданской войны казаки пороли
шомполами своих пленников. Это
показывает, насколько крепка традиция
крепостного права. Конечно же, плохая
традиция. Поэтому, когда вся масса из
низших слоев, которые никакими правами
не пользовались, которым давали “по
морде” офицеры, прорвалась к власти, то
с правами человека сразу стало совсем
плохо. Но в интеллигенции нашей все-таки
продолжала дремать традиция, идущая от
Указа о вольности дворянства, от времен
Екатерины Великой. Так что нельзя
сказать, что понятие “права человека”
нам совсем чуждо. Это чуждо тем, кто
совсем не приобщился к европейской
культуре, в которую Россия все-таки
включилась.
КАСАТКИНА:
Сейчас много говорят об
универсальности понятия “права
человека”. Но если с этих позиций
рассуждать, то разве можно подходить
одинаково к Германии, России, Чечне,
Китаю и т.п.?
ПОМЕРАНЦ:
Есть великие азиатские культуры, где
гарантией культуры являются не права
человека в западном смысле этого слова.
Например, китайская и индийская
культуры. Они ведь основаны не на
европейских принципах защиты и
гарантиях культуры, а на иных принципах.
И я думаю, что пройдет значительное
время, пока этот принцип прав человека,
который я разделяю и которому
сочувствую, сможет распространиться и
в этих культурах, врасти в них.
Вообще,
закон и нравственность - не совсем одно
и то же. Это соприкасающиеся, но разные
поля. Просто о нравственности в России
всегда говорят. Вот только сейчас
перестали говорить. И это ужасно, когда
не хватает ни нравственности, ни закона.
И то, и другое нужно. Нельзя считать, что
на Западе - только холодный закон и нет
никакой этики. Но ряд вещей на Западе
решает закон, а в России решается (худо
или бедно) - по совести. По-видимому, это
связано с некоторой нашей архаичностью,
в чем есть и своя хорошая сторона. Я уже
говорил о воли. И должен сказать, что
понятие воли включает в себя и хорошую
сторону. Воля есть что-то живое,
естественное. Выйти на волю - это выйти
на воздух или, в народном понимании, “окунуться
в природу”. Воля связана с восприятием
широты русской равнины, с любовью к не
городской жизни и т.д. Это нельзя
совершенно зачеркнуть. Просто надо как-то
уравновесить некоторые
догосударственные традиции, которые у
нас в чем-то живы, с современными
юридическими гарантиями норм жизни.
КАСАТКИНА:
Сейчас очень горячий вопрос в России -
Чечня. Там существуют свои законы,
закон шариата. Понятно, что это никак не
соотносится с международным правом, а
входит даже в противоречие с нашим
Уголовно-процессуальным кодексом и т.д.
Но это их традиции. Имеем ли мы право,
вмешиваться в эту их жизнь и навязывать
свое понимание (и не только российское,
но как бы и международное), и тем самым
разрушать то, что, может быть, держало
эту республику, это сообщество в
состоянии какой-то стабильности?
ПОМЕРАНЦ:
Если я не ошибаюсь, то чеченцы - очень
недавние мусульмане. Там был адат, и у
них в тотеме - волк. Это еще, в сущности,
в основе своей, этнос до мировой
религии. Их ислам достаточно недавний,
и адат с кровной местью - отнюдь не
мусульманский обычай, а обычай, прямо
запрещенный Мухаммедом. Так что их
шариат не столько традиция, сколько
лозунг, лозунг антизападный, даже
антирусский. Сейчас мы всюду
сталкиваемся с контрнаступлением
ислама на западную цивилизацию.
Западная
цивилизация, особенно в своем
последнем варианте, ставит вопрос identity,
то есть чувства тождества с самим собой,
чувства принадлежности к некоему
целому. Западный человек уже как-то
привык к существованию изолированного
индивида, хотя страдает и он от этого. О
таком страдании и изолированности
человека достаточно много написано
хорошей прозы, и философской, и
художественной. Это, конечно, болезнь
западной культуры. Запад уже привык так
хронически болеть и хронически искать
из этого выхода. Когда же это попадает в
мусульманский мир, то рушится весь
порядок. Ибо ислам - это не религия не от
мира сего, которая может
приспособиться к любому миру, отсылая к
царству небесному. В этом смысле ислам
резче противостоит Западу, чем,
допустим, китайская или индийская
традиция, где есть какие-то мистические
глубины, куда можно уходить, не
оставляя мир иллюзий, и в то же время
существовать в таком мире, каков он
есть. Кстати, вестернизация происходит
легче на Дальнем Востоке, чем в странах
ислама, которые, как правило, очень
сопротивляются. Для вестернизации
ислам просто должен быть отодвинут в
сторону, как в Турции, что вызывает
очень мощное сопротивление. Там же, где
ислам более укоренен и не разболтан
веками соприкосновения с Западом (Турция
ведь отчасти европейская страна), - там,
естественно, возникает
контрнаступление. Это проблема,
которую нельзя решить просто. Западная
цивилизация сумеет с ней справиться,
если она выйдет из своего собственного
кризиса, кризиса разрушения ценностей.
На самом Западе уже рухнула иерархия
ценностей; помните, как говорил Осип
Мандельштам: этот “ценности
незыблемый оскал”.
Постмодернизм
- это признание того, что все лежит на
одном уровне. Нет различия. “Я люблю
химию, а ты любишь яблоки”, - как было
сказано в романе Тургенева “Отцы и
дети”. Вот на этом держится
постмодернизм. Это очень захватывает и
очень удобно, но для многих невыносимо.
Это, я думаю, связано с тем (кстати, и не
случайно), что число самоубийств в
западных странах гораздо больше, чем в
бедных и нищих странах. В западных
странах человек - это как изолированный
атом. А смысл жизни - это ведь чувство
принадлежности к чему-то целостному и
вечному. Называется ли это именем Бог
или другим именем, но что-то священное,
целостное и вечное, осознаваемое как
что-то прорастающее в нас самих,
придает жизни чувство смысла. Когда
Лука из пьесы “На дне” Горького
говорит, что человек живет для лучшего,
он в какой-то степени выражает эту
мысль. Жизнь человека имеет смысл, если
человек живет для лучшего, для чего-то,
что созревает в нем самом и что больше
его самого. У переводчицы Зинаиды
Александровны Миркиной есть такое
соответствующее определение - “прорастание”:
“Я чувствую, что в человеке прорастает
Бог”. И вот это прорастание придает
жизни смысл. Человек, оторванный от
созерцания целого, теряет это чувство
чего-то прорастающего в нем, и вместе с
этим он теряет чувство смысла жизни.
Уже некоторые чеховские герои это
очень хорошо понимали. Вспомним,
например, “Скучную историю”. А у Льва
Толстого Левин, начитавшийся
материалистических брошюр, чуть не
покончил жизнь самоубийством. Это не
русская проблема, это западная
проблема, которая в России тоже была
пережита.
Для
того чтобы размыть почву
контрнаступления ислама, Запад сам
должен стать другим. Он должен обрести
заново духовную почву, по-видимому,
благодаря определенному глубокому
осовремениванию религии. Это я
определил грубыми словами. Но, вероятно,
надо освободить религиозные традиции
от требования буквально верить в
легенды и мифы, окутавшие реальность
священного, и отделить то, во что верить
можно и должно. То есть то, что
некоторые люди переживают реальность
Бога, реальность Христа - это бесспорно
для меня. Но священное, истинное, надо
освободить от легенд, которыми полно
Евангелие и которые православный
фундаментализм требует принять за
факты. В результате человек
оказывается перед выбором: или верить в
то, во что верить невозможно, или
остаться без единства веры, надежды и
любви, ибо любовь и вера очень глубоко
связаны. Чтобы чувствовать жизнь как
любовь, идущую изнутри навстречу любви,
идущей к нам, нужна вера в то, что другие
люди это уже испытывали, что минуты,
когда мы это чувствуем, не случайны и не
иллюзорны. Такие благодатные мгновения
просто попадают в известную традицию и
смыкаются с духовным опытом людей, в
этом превзошедших нас. Это легко
сформулировать, но все же лучше
прочувствовать.
Очень
важна, с моей точки зрения, традиция
поэтического пути к священному. Скажем,
если говорить об исламе, то мы обычно
забываем, что рядом с догматическим,
воинственным исламом был суфизм. Очень
свободомыслящий, основанный на
непосредственном поэтическом чувстве
священного в жизни и давший
замечательную поэзию. И в наш век есть
не только тоска, как у Кафки, по смыслу
жизни, который оказывается за
запертыми воротами, как за воротами
замка, около которого бродишь. Есть
ведь и Райнер Мария Рильке, есть и
другие прорывы к непосредственному
чувству священного. Конечно, осмыслить
все это очень нелегко, особенно в нашем
техногенном мире.
Пока
Запад остается таким, каков он есть,
ислам выступает как защита
религиозного смысла жизни от пошлой,
вульгарной, развлекательной поп-культуры
цивилизации. И не случайно, движение в
Иране началось с американского фильма,
который очень многих там возмутил. Этот
факт было бы крайне опасно недооценить.
Тогда не экономика сыграла роль. С
экономикой было все в порядке: шах
разумную реформу проводил. Для них
невыносима была эта псевдокультура с
акцентом на грубую плотскую радость,
которая разрушала духовную жизнь. Даже
в варварской реакции на это было нечто
такое, что я способен понять.
КАСАТКИНА:
В нашем разговоре принимает участие
сотрудник Института прав человека
Татьяна Иосифовна Венславская.
ВЕНСЛАВСКАЯ:
Сейчас, к сожалению, человек не может
слышать сам себя. Но для того, чтобы
услышать то неосязаемое, о чем мы
говорим, он должен побыть сам в себе, а
его все время крутят и выворачивают
наизнанку.
ПОМЕРАНЦ:
Я скажу о собственном опыте. Меня в
юности захватили стихи Тютчева,
некоторые страницы Льва Толстого и
Достоевского, которые растормозили во
мне тоску по целостному, вечному. И я
пошел навстречу этой тоске, я
вглядывался в нее и затем переболел ею.
И так я дошел до чувства как бы выхода
из темноты к свету. Обратный же путь -
отодвинуть от себя это и искать
развлечений от скуки, которая в этом
случае гоняется за тобой. Тоска - это
боль. Скука - скорее чувство некоторого
отупения. Надо быть открытым боли,
тогда будет и радость. Ребенок же
переходит от ликования к слезам и от
слез - к ликованию. Человеку взрослому
эту открытость чувств и открытость
боли, поскольку он видит ужасы жизни,
надо в себе сохранять. И через
открытость боли надо придти к
открытости радости, которая глубже
боли. Вот путь, который я лично прошел и
который дал мне глубокое равновесие.
А
противоположный путь - это путь через
некое отупение чувств, защита от скуки
в каких-то поверхностных подделках
искусства, вроде громкой музыки, ярких
красок и т.д. Но скука, “как за Онегиным
хандра, как тенью верная жена”, идет за
такими людьми, которые со скуки, в конце
концов, иногда готовы принять что-то
варварское, дикое. Помните, как говорил
Горький: “на пустом лице и царапина -
украшение”. Многие взрывы дикости в
цивилизованных странах связаны с этим.
Уже не только деспотизм вызывает
взрывы бунта, но, как мы наблюдали в 1968
году, скука цивилизации со всеми
гарантиями личных прав тоже вызывает
бунт. Это протест против скуки
цивилизации.
Первый
же путь - путь через сознание своей
оторванности к выходу в глубину, где
эта оторванность преодолевается.
Причем она есть и в ортодоксальных
религиях, но у тех людей, которые
обладают глубоким личным опытом. Я у
Антония Блума нашел прекрасные слова,
что наш главный грех - это потеря
контакта с собственной глубиной.
ВЕНСЛАВСКАЯ:
Лет 10 назад митрополиту Антонию
Сурожскому в Лондоне, когда брали у
него интервью, задали вопрос: что, по
его мнению, первостепенно важно для
России сегодня. Митрополит сказал, что
“важно возродить веру в человека не
как раба или работодателя, не как,
скажем, научного гения или участника
муравейника, а как неповторимую
личность, которая только и может
соотноситься с другими личностями”.
Что Вы
можете сказать о рабстве, как о
мировоззрении человека в России?
ПОМЕРАНЦ:
Я могу только присоединиться к этой
мысли Антония Блума. Но как уничтожить
этого раба? Очевидно, это значит
принять на себя ответственность за все,
что произошло в стране. Не нужно
считать того, что “лично со мной
сделали”, так как это уже чувство раба.
Вот со мной это сделали, и пусть мне
дадут лучшее. Свободный человек
считает, что он ответственен за все, что
происходит в мире. И значит, он должен
сам каяться за все, что сейчас
происходит. Он должен признать свою
вину в том, что страна находится в таком
состоянии, и что от него зависит, чтоб
государство стало лучше. А не от
государства зависит, чтобы лучше стало
мне. То, что это совпадает с западной
традицией, не случайно, потому что
достоинство личности и права личности -
это все-таки, в общем, западная традиция,
утвердившаяся, правда, не без потерь.
Если в ХУП веке это еще связано с
глубоким религиозным чувством - время
Рембрандта и Эль Греко в живописи, Баха
и старых итальянцев в музыке и т.д. - то
потом общий поток культуры мельчает,
хотя отдельные гении всегда
прорывались в глубину. Человек слишком
легко нашел удовлетворение в себе
самом и потерял контакт с чем-то высшим,
что прорастает в его душе.
Сейчас
проблема в том, чтобы постараться
привить вкус к глубине все-таки
достаточно большому числу людей. Хотя
это, конечно, и выглядит утопией. Надо
стремиться к тому, чтобы открыть в себе
глубину и держать себя открытым для нее,
чтобы создать какой-то импульс
возрождения, который может потом
увлечь за собой других.
КАСАТКИНА:
Это был взгляд известного философа
Григория Померанца на проблему “Традиции
и права человека”.
Несколько
иная точка зрения у доктора
исторических наук Андрея Зубова.
ЗУБОВ:
Права человека ошибочно считают идеей,
возникшей только после Великой
Французской Революции или в эпоху
Французского Просвещения, или немного
ранее. Действительно, тогда они были
артикулированы, тогда они были
высказаны. Но, по сути своей, идея прав
человека - это идея очень глубокая,
очень древняя и, наверно, соизмеримая с
самим человечеством, потому что она
уходит своими корнями в принцип
Богоподобия человека: человек - это
образ и подобие божье. Бог свободен.
Главное качество Бога - это абсолютная
свобода. Поэтому человек, как образ и
подобие Божие, также имеет свободу.
Собственно, многие мыслители древности,
не только, кстати говоря, христианские,
но и в Индии, в Египте и в исламе,
полагали, что человек по природе своей,
по естеству своему, подобен Богу именно
потому, что он свободен. То есть свобода
- это главное качество человека. А если
это так, то, соответственно, любые
попытки эту свободу ущемить, сделать
человека лишь орудием какого-то
другого человека или какой-то другой
системы - это преступление. “Благородный
муж, - говорил Конфуций, - не подобен
вещи”. В чем смысл этого
замечательного изречения? Вещь
используется. Ложка, например,
используется для того, чтобы человек
выпил чаю и размешал сахар. А вот
человек не может быть использован.
Человек - это не вещь. Например, когда
начальник (Конфуций много думал об
отношениях начальника и подчиненного)
посылает своего подчиненного по тому
или иному делу и требует от него
исполнения того или иного, он должен
всегда помнить, что это не говорящее
орудие, а именно человек, образ Божий,
это брат его, то есть человек с таким же
духовным потенциалом, как и он сам. Это,
разумеется, совершенно иначе
выстраивает отношения. И, кстати говоря,
это то, что сейчас вошло в западный
лексикон под принципом political correctness, что
означает политическую корректность,
аккуратность или политическую
правильность. Когда человек объявляет,
что христианство - хорошо, а
мусульманство - плохо, скажут, что он
политически некорректен, потому что
мусульман это оскорбляет. Можно
говорить о том, что, с его точки зрения,
догматы христианства совершеннее
догматов ислама, но нельзя никогда
унижать человеческую личность.
Кстати,
и ранжировать людей по качеству, что
делали нацисты или коммунисты, деля
всех на людей первого и второго сорта,
также, мягко говоря, политически
некорректно. Не обязательно уничтожать
людей физически, ведь можно, унизив их,
уничтожить морально.
Политическая
корректность на самом деле также
коренится в принципе нравственного
переживания человеческой личности как
абсолютно бездонной ценности. И отсюда
возникает идея прав человека. Права
человека - это не права индивидуума, это
права бездонной, Богоданной,
Богоподобной личности. Когда
происходила секуляризация в Западной
Европе в XVIII веке, как раз во Франции,
тогда человек как бездонная личность
постепенно переставал переживаться
самим собой. Он стал себя ощущать лишь
как субъекта социального процесса.
Вместо того, чтобы переживать себя как
часть Божественного Вселенского бытия,
как, если угодно, часть Бога (ведь,
например, в молитве, христианин
обращается к Богу - “Отец”, значит, он
представляет себя как сына, и,
следовательно, как сын он несет в себе
качества Отца), человек перестал
переживать свою Божественную
бездонность, Божественную
неограниченность. Он стал ощущать себя
только как ограниченного во времени и
пространстве субъекта общественных
отношений и социальных процессов.
Тогда-то и появилось понятие “прав
человека”, как именно социального
существа, то есть права-то остались, но
ощущение внутренней духовной
подосновы этих прав исчезло. Если
угодно, человек лишился своего
метафизического, своего Божественного
основания. И поэтому просветители
стали говорить о правах человека как
уже о правах вот этой земной конечной
личности. На самом деле, этот разговор о
правах человека очень ценен тем, что он
хотя бы практически сохраняет
воспоминания об истинном призвании
человека.
Интересно,
что, как только человек перестает себя
осознавать абсолютной Божественной
личностью, как только он начинает
говорить о своих правах в чисто
социальном плане, тут же эти права
начинают повсеместно и тотально
нарушаться. Да, конечно, эти права
нарушались всегда, уже с того момента,
как Каин убил Авеля. Мы во всей истории
видим тысячи нарушений. И в эпоху как бы
христианской цивилизации и в Европе, и
в России права человека нарушались. Но
никогда они не нарушались так тотально,
так сознательно, как это было в XIX-XX
веках. Особенно в XX веке (сейчас мы
подводим итог нашему веку) права
человека на жизнь, на поиск истины, на
внутреннюю (я уж не говорю,
политическую) свободу - все эти права
подверглись сознательному уничтожению
и в коммунистическом, и в фашистском
обществе. По сути дела, и во многих
обществах, которые формально таковыми
не являются, права также уничтожались.
Человеку другой национальности, другой
социальной группы, другой расы
отказывалось в том, в чем признавались
права предпочтительной расы, культуры.
Люди оказывались разноправными по не
зависящим от них обстоятельствам.
Человек ведь не может изменить свою
национальность, свое социальное
происхождение или цвет кожи.
В этом
смысле XX век показал, что без метафизического
измерения глубины человеческой
личности (без переживаний духовной
реальности личности) прав человека
быть не может. Они теряются. О правах
говорят, но они ущемлены. Я приведу
слова главного оппонента Конфуция Лао-Цзы,
который сказал, что “в обществе, где
все родственники в ссоре, начинают
говорить о сыновней почтительности и
об отеческой любви”. То есть там, где
этого нет, об этом говорят, а когда это
есть, то это так же естественно, как
воздух. Если сейчас все говорят о
правах человека, то это явный признак
того, что эти права уже давно
глубочайшим образом нарушаются и не
соблюдаются.
Теперь
мне хотелось бы перевести эту тему
именно в сравнение культур. Поскольку
сейчас на Западе говорят о правах
человека, то иногда мы предполагаем,
что они там есть и что там они
понимаются, признаются и уважаются, а в
других обществах их нет, и там они не
признаются и не уважаются. И, скажем,
как противоположность западному
обществу, некоторые выставляют
исламское общество, исламскую
цивилизацию, полагая, что там якобы
прав человека нет. Все это не совсем так.
Дело в том, что существует уровень метафизической
глубины личности - переживаний
личностью духовной реальности.
Существует и уважение к этой метафизической
глубине. Оно есть всюду, где есть
вера: в Индии, в мусульманском и
христианском мире, в мире буддизма. Я не
знаю религии, которая не уважала бы метафизическую
глубину человека и которая не
считала бы ее главной ценностью. Но
дело в том, что чисто по своей
цивилизации общества устроены
различно. Соотношение человека, как
индивидуума, и общества, как целого,
различно в разных культурах. Почему в
странах, вышедших из лона католичества,
предположим, в Италии и Англии,
совершенно разное отношение к человеку,
как к индивидууму. В Италии
подчеркивается в основном социальное
отношение, а в Англии - более
индивидуальное. Это загадка. Такая же,
собственно говоря, загадка, как
абсолютно разные характеры у двух
сестер, рожденных от одних родителей,
выросших рядом в одной семье,
воспитанных в одних и тех же условиях и
имеющих разницу в возрасте всего лишь
1,5 года.
В
принципе, можем сказать так: в Старом
Свете есть три типа отношений между
человеком и обществом. Они формируют
три типа отношений к проблеме именно
прав индивидуума.
Первый
тип - западноевропейский. Личность,
человеческая индивидуальность, - это
монада, нечто замкнутое. Человек один
предстоит Богу. Как говорил Лютер,
можно “молиться в сенном сарае, и
молитва ничем от этого не будет хуже”.
Это знают все, но сказал это именно
немец Лютер, а не, скажем, православный
человек. Хотя православный человек с
ним бы не спорил. Что человек предстоит
Богу сам по себе - идея вполне
каноническая. У апостола Павла можно
найти слова: “Кто ты, что судишь чужого
раба: пред своим Богом стоит он или
падает...”. Тем не менее, эта идея
наиболее близка сознанию западного
человека. Отсюда главное отношение
между западными людьми - это договор:
договор на социальную самоорганизацию,
договор на местное самоуправление и,
соответственно, договор на уважение
твоих индивидуальных прав. Ты уважаешь
мои индивидуальные права, я уважаю твои
индивидуальные права.
Второй
тип, или иная идея, характерна для стран
как бы среднего региона, куда входит и
византийско-христианский регион, в том
числе и Россия, и страны ислама, в
равной степени. Здесь между ними нет
разницы. Это представление о том, что
человек до конца может раскрыться лишь
в общении с себе подобными. Это
некоторая идея собрания, или, как
говорят у нас, соборности, или, как
говорят мусульмане, единства. Конечно,
человек остается индивидуальностью,
личностью сам по себе. И ответ перед
Богом несет Иван, Петр или Ахмет, но не
общество в целом. При этом человек не
может себя до конца раскрыть, оставаясь
одним. Но он раскрывает себя не столько
в договорных отношениях, сколько в
отношениях, связанных именно любовью,
связанных нравственной взаимной
ответственностью. Посмотрите Ветхий
Завет, который, кстати, является
прекрасной книгой именно этой традиции,
этой культуры. Ведь еврейский народ
предстал там как некое единство. Один
согрешил, а страдает весь народ. И
ортодоксальный иудаизм до сих пор эту
идею несет: народ - это как бы целое, а
чей-то грех, равно и добродетель, бьет
или, наоборот, окрыляет, исправляет, или
возвышает весь народ. Соответственно,
общество заботится о том, чтобы все
люди были максимально совершенны.
Для
Запада, особенно для современного
Запада, кажется диким мусульманское
отношение, предположим, к блуду. Если
будет пойман человек, соблазняющий
чужую жену, то он осуждается публично
как преступник. Для западного же
человека вмешательство в сферу
интимных отношений кажется
противоестественным и считается
нарушением его личных прав. А для
мусульманина и для средневекового
человека (даже западной культуры) как
раз блуд и прелюбодеяние - нарушение
прав человека.
И,
наконец, третий тип отношения общества
к человеку. Этот тип характерен для
Южной Азии. Индуистский случай,
например, - это удивительное совмещение
первых двух традиций. Великолепный
французский культуролог, специалист по
Индии Луи Дюмон обратил внимание на то,
что в Индии сосуществуют два типа
отношения общества к человеку. Обычный
мирской человек, который живет в семье,
имеет детей, который не разорвал своих
отношений с миром и погружен в
социальную жизнь как экономический
субъект и как семьянин, подпадает под
исламо-православную традицию харизмы,
целостности. И, соответственно, если он
из нее выпадает, то это считается
оскорблением всего общества, и за это
следуют строгие наказания.
Но
Индия в то же время предполагает, что
человек может разорвать с социумом и
уйти от него. Человек может стать
аскетом и отказаться от семьи,
имущества, стать бродячим монахом, не
имеющим ничего, кроме накидки и чашки
для подаяний. Тогда он свободен, и любое
его действие имеет право на
существование. Он своими действиями,
даже самыми необычными, не травмирует
общество, а наоборот, его как бы
созидает. Это очень сложно понять
западному человеку, но это так.
Таким
образом, в Южной Азии есть два
религиозных представления о праве.
Если ты хочешь быть в обществе, ты
должен соблюдать его законы. Если же ты
не хочешь соблюдать законы общества, то,
пожалуйста, покинь его. В этом случае
тебе следует решиться отторгнуть себя
от общества и стать внутренне
свободным от него, естественно, по
религиозным мотивациям, а не по
мотивации современного московского
бомжа. Мотивы здесь очень важны.
Можно
сказать еще о четвертом типе отношений
- дальневосточном. Он отличается от
первых трех тем, что для него важнейшим
является растворение человека не
столько даже в социуме как в целом,
сколько в природе, где социум всего
лишь подструктура всего природного
мира. Исламу и христианству не
свойственен такой экологический
подход. Ислам и христианство социальны
и мыслят идеей общества, идеей человека
в обществе, но не мыслят идеей человека
в природе. А дальневосточный тип мыслит
идеей человека и общества в природе, и,
соответственно, нарушение
определенной гармонии в природе
вызывает турбуленции, которые могут
погубить человека. То есть круг прав и
обязанностей человека еще более
расширяется.
Вот
так, по-разному, различные традиции
относятся к правам человека внешне. Но
подчеркиваю, что речь шла только об
отношении социальных традиций к широте
понимания этих прав. Глубина же
переживания, или осмысления человеком
своего права на то, что он должен быть
свободным, есть всюду. Это коренится в
общих для всех культур переживаниях, то
есть осмыслениях, Божественной
природы основания человека.
КАСАТКИНА:
Можно ли в этом случае говорить об
универсальности прав человека?
ЗУБОВ:
Безусловно. Но ни каких-то конкретных
прав, потому что список этих прав в
разных традициях разный.
Не
надо предполагать, что список, данный
западноевропейской культурой,
универсален. Права варьируются. Но,
безусловно, права человека - это
общечеловеческая идея. Подчеркиваю: ни
в одной традиции никто не имеет права
вторгнуться во внутренний мир другого
человека и принудить изменить его
отношение к бытию, к миру. И если ты это
делаешь, ты преступник при любой
традиции. Возьмите, например, Индию. Там
сосуществуют индуисты, мусульмане,
буддисты и др. Да, временами возникают
безумные воспалительные процессы,
когда индуисты начинают бить мусульман,
или мусульмане начинают бить индуистов,
или когда они, объединившись, идут
против буддистов и т.п. Но это болезнь, и
общество понимает, что это плохо. Когда
оно приходит в себя, то страдает от
происшедшего. Так и в Европе был нацизм,
коммунизм, но общества сейчас
выздоравливают и понимают, что тяжело
болели.
Безусловно,
права человека - общечеловеческие
ценности. Но всегда необходимо помнить,
что как различаются языки народов,
различаются во многом и религиозные
традиции. Как разно дальневосточное,
южно-азиатское и европейское искусство
(живопись, музыка и т.п.), так же разно и
понимание суммы прав и всевозможных
спектров прав в разных традициях и
культурах.
КАСАТКИНА:
Тему “Традиции и права человека”
мы продолжим в наших следующих
передачах. А на сегодня все. До свидания!
До новых встреч! niw 31.03.2006 |
|