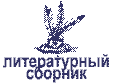- В интервью И.Померанцеву
по поводу 350-й годовщины со дня
смерти Донна Бродский отмечал, что,
переводя Донна, он «очень многому
научился. Дело в том, что вся русская
поэзия по преимуществу строфична,
то есть оперирует в чрезвычайно
простых строфических единицах –
это станс, четверостишие. В то время
как у Донна я обнаружил куда более
интересную и захватывающую
структуру. Там необычайно сложные
строфические построения. Мне это
было интересно, и я этому научился. В
общем, вольно или невольно, я
принялся заниматься тем же, но это
не в порядке соперничества, а в
порядке, скорее, ученичества. Это,
собственно, главный урок».
-
Это "ученичество" у Донна и
метафизиков дало весьма богатые
плоды. Знакомство Бродского с
Донном относится приблизительно к
1961 – 1962 году. "Официально"
Бродский указывает 1964 год, когда он
получил от Лидии Корнеевны
Чуковской том стихов и прозы Донна,
изданный «Penguine» в серии «The Modern Library».
Но «Большая элегия Джону Донну»
датирована 1963 годом (сам Бродский в
цитированном выше интервью
называет 1962), и, по словам поэта, к
тому времени он уже знал «какие-то
отрывки из его проповедей и стихи,
которые обнаружились в антологиях».
-
Учитывая эту границу: 1963 год,
обратимся к простому
математическому подсчету. Согласно
анализу Барри Шерра, если у
Бродского в стихах 1956 – 1962 гг. 4-х
строчные строфы составляли 65,5% от
общего числа строфических
стихотворений, то в 1963 – 1971 – всего
лишь 20%. При этом в 1963 – 1971 годах у
Бродского появляются ранее не
встречавшиеся 6-ти (7,9%), 7-и (0,9%), 9-ти
(0,9%), 10-ти (1,8%) и 12-ти (1,8%) строчные
строфы, а что касается 8-и строчных
строф, их доля вырастает с 1,8% в
ранний период до 15,0% в период между
1963 и 1971 годами.
Несомненно, многие из этих
экспериментов были логичным
результатом внутреннего развития
самого поэта, однако столь резкий
всплеск интереса к сложным
строфическим формам мог быть
спровоцирован лишь неким внешним –
и в данном случае обозначенным
самим поэтом – влиянием.
-
Следует обратить внимание и на
серьезные изменения, касающиеся
композиционных принципов стихов
Бродского, отмечаемые после 1962 года.
Ранние стихи строились как
протяженное линейное развертывание
метафоры, причем сама эта метафора
так или иначе связывалось с путем
или дорогой, движением: таковы «Пилигримы»
(1958), движение задает всю структуру
образов "стихотворений о
всадниках": «Под вечер он видит» и
«Ты поскачешь во мраке» (1962),
движение процессии определяет
появление персонажей-масок в поэме-мистерии
«Шествие» (1961), и движение же задает
цепочку сменяющих друг друга
образов, – так проплывают перед
взглядом пешехода фронтоны зданий,
– в стихотворении, приближающемся к
поэме: «От окраины к центру» (1962).
-
Все эти тексты "развертываются"
линейно: образ вводится,
разрабатывается, "угасает" и
уступает место следующему.
-
Если мы обратимся к Донну – его
«Песням и сонетам» или стихотворным
посланиям, – то увидим, что
большинству из них присущ
совершенно иной принцип построения,
– который, кстати, резко отличался
от опыта его английских
предшественников и современников,
начиная с Томаса Уайетта до Эдмунда
Спенсера, склонных к линейной
композиции.
-
Специфика донновской
организации поэтического текста
заключалась в том, что все
стихотворение строилось на
сквозном образе-метафоре, "раскручивающем"
стихотворение как пружина, вовлекая
все новые и новые ряды ассоциаций,
работающих на магистральную тему-образ
стихотворения. Эта тема-образ часто
была заявлена в названии
стихотворения (при этом следует
помнить, что нередко мы имеем дело
не с авторскими названиями, а с теми,
что даны составителем посмертно
вышедшего сборника), концентрируя
смыслы. Через ряд ветвящихся
вспомогательных сравнений, обычно
неожиданно-ярких, поэт двигался к
некому парадоксальному выводу-резюме.
При этом главным двигателем
донновской поэтики было, по
определению Бродского, «развитие
мысли, тезиса, содержания. В то время
как их [Донна и поэтов-метафизиков –
А.Н.] предшественников более
интересовала чистая – в лучшем
случае слегка засоренная мыслью –
пластика».
-
"Стратегия", применяемая
Донном вновь и вновь во множестве
стихотворений, состоит в том, чтобы,
оттолкнувшись от некоего
постулирования ситуации, за счет
разработки новых и новых
смыслообразующих сравнений увести
читателя в сторону, – а затем,
совершив этот "обходной маневр",
выйти "в тыл" этой посылке – и
"разгромить ее", перевернув все
смыслы, переставив ситуацию "с
ног на голову" и представив ее
совершенно новой и неожиданной.
-
Укажем в качестве примера хотя
бы на стихотворение «Блоха» («The
Flea»),
учитывая, что оно присутствует и
среди переводов Бродского из Донна:
-
- Marke
but this flea, and marke in this,
- How
little that which thou deny'st me is;
- It
suck'd me first, and now sucks thee,
- And
in this flea, our two bloods mingled bee;
- Thou
know'st that this cannot be said
- A
sinne, nor shame, nor losse of maidenhead,
- Yet
this enjoyes before it wooe,
- And
pamper'd swells with one blood made of two,
- And
this, alas, is more then we would doe.
-
- Oh
stay, three lives in one flea spare,
- Where
wee almost, yea more then maryed are,
- This
flea is you and I, and this
- Our
mariage bed, and mariage temple is;
- Though
parents grudge, and you, w'are met,
- And
cloysterd in these living walls of Jet.
- Though
use make you apt to kill mee,
- Let
not to that, selfe murder added bee,
- And
sacrillege, three sinnes in killing three.
-
- Cruel
and sodaine, hast thou since
- Purpled
thy naile, in blood of innocence?
- Wherein
could this flea guilty bee,
- Exept
in that drop which it suckt from thee?
- Yet
thou triumph'st, and saist that thou
- Find'st
not thy selfe, no me the weaker noe;
- 'Tis
true, then learne how false, feares bee;
- Just
so much honor, when thou yeeld's to mee,
-
Will wast, as this flea's death tooke life from thee.
-
- Первая строфа стихотворения –
экспозиция ситуации и темы: «героиня
отказывает поэту в том, что
досталось даже блохе». Вторая
строфа - развертка метафоры: «блоха -
храм и ложе возлюбленных; пусть
недовольны героиня и ее родители -
встреча влюбленных произошла: в
брюшке блохи». Фактически, метафора
здесь исчерпана. Поэт,
принадлежавший к поколению "старших
елизаветинцев", на этом бы и
остановился. Однако Донн идет
дальше: «Убив блоху, она покончит с
поэтом, - но не надо присовокуплять к
этому самоубийство, и святотатством
было бы тройное убийство трех
грешников!». Перед нами
дополнительный смысл, шаг в сторону,
когда тема соединения возлюбленных
замещается темой убийства/самоубийства
и морального запрета. И уже отсюда
вводится следующая "развертка":
«Жестокая и немилосердная, ты
обагрила ноготь кровью невинного
существа? Но ведь ни ты, ни я не
ослабли от того <укуса>. Узнай же,
сколь ложны твои опасения. Твоя
честь понесет от меня урон не
больший, чем смерть этой блохи
отняла у твоей жизни». Донн "кольцует"
стихотворение, возвращаясь к
начальной посылке, но уже на ином
уровне. Весь блеск остроумия второй
строфы нужен был ему, чтобы увидеть
ситуацию под совершенно иным углом
зрения, "опрокинуть" ее.
-
В переводе Бродского, весьма
точном, стихотворение звучит
следующим образом:
-
- Узри
в блохе, что мирно льнет к стене,
- В
сколь малом ты отказываешь мне.
- Кровь
поровну пила она из нас:
- Твоя
с моей в ней смешаны сейчас.
- Но
этого ведь мы не назовем
- Грехом,
потерей девственности, злом.
-
Блоха, от крови смешанной пьяна,
-
Пред вечным сном насытилась
сполна;
-
Достигла больше нашего она.
-
- Узри
же в ней три жизни и почти
- Ее
вниманьем. Ибо в ней почти,
- Нет,
больше чем женаты ты и я.
- И
ложе нам, и храм блоха сия.
- Нас
связывают крепче алтаря
- Живые
стены цвета янтаря.
-
Щелчком ты можешь оборвать мой
вздох.
-
Но не простит самоубийства Бог.
-
И святотатственно убийство трех.
-
- Ах,
все же стал твой ноготь палачом,
- В
крови невинной обагренным. В чем
- Вообще
блоха повинною была?
- В
той капле, что случайно отпила?..
- Но
раз ты шепчешь, гордость затая,
- Что,
дескать, не ослабла мощь моя,
-
Не будь к моим претензиям глуха:
-
Ты меньше потеряешь от греха,
-
-
Парадоксальная метафора
образует здесь "костяк",
структурирующий стихотворение,
позволяющий поэту, совершая ряд
отступлений, оставаться в рамках
заданной темы, свободно наращивая
вокруг нее "плоть"
дополнительных смыслов, от бытовой
ситуации восходя к "последним
вопросам" бытия (в данном случае -
теме самоубийства, весьма
волновавшей Донна, посвятившего ей
целый трактат - «Биотанатос»), -
чтобы увидеть истинную
многомерность происходящего.
Именно в этом специфически новом
использовании метафоры состояла
суть открытия поэтов-метафизиков.
-
И именно это подчеркивает
Бродский, говоря, что «читая Донна
или переводя, учишься взгляду на
вещи. У Донна, ну не то, чтобы я
научился, но мне ужасно понравился
этот перевод небесного на земной...
то есть перевод бесконечного в
конечное... Это, как Цветаева
говорила: "голос правды небесной
против правды земной". Но на самом
деле не столько "против",
сколько переводы правды небесной на
язык правды земной, то есть явлений
бесконечных в язык конечный. И
причем от этого оба выигрывают. Это
всего лишь приближение, как бы
выражение серафического порядка.
Серафический порядок, будучи
поименован, становится реальней. И
это замечательное взаимодействие и
есть суть, хлеб поэзии».
-
Попробуем же, с учетом этих
наблюдений, взглянуть на «Большую
элегию Джону Донну» Бродского. «Элегия»
привлекала внимание множества
исследователей.
Наиболее "основательный" ее
анализ содержится в книге Д. Бетеа «Иосиф
Бродский: изгнание как творение»
и диссертации В. Куллэ «Поэтическая
эволюция И.Бродского в России (1957 –
1972)».
-
Отмечая серьезность достижений
И. Бродского в «Большой элегии», Д.Бетеа
пишет, что поэт здесь впервые в
своем творчестве вступает на
интеллектуальную почву, связанную с
христианством, – совершенно
вытравленным из сознания советской
интеллигенции. «Библейская
традиция, с ее представлениями о
Божественном суде, теодицее, пути
спасения, смысле и форме истории,
смерти и воскрешении, отношениях
души и тела – весь религиозный и
философский словарь осваивается и
становится средством эксперимента
– словно слова
эти и весть звучат в первый раз».
Характерно, что Бродский лишь в 23
года (то есть – параллельно
написанию «Элегии») открыл для себя
Библию,
а в интервью Энн Лотербах (1988) он
обмолвился, что слово "душа"
впервые употребил в поэме «Зофья»
(1962): «И я продолжаю его использовать.
Как только ты это сделал, пути назад
нет».
-
По словам самого Бродского,
одним из импульсов к написанию “Большой
элегии” было желание задать
стихотворению «центробежное
движение... ну,
не столько центробежное... как
камень падает в пруд, и постепенное
расширение... прием скорее
кинематографический – да, когда
камера отдаляется от центра».
Обратим внимание на эту
формулировку. Речь здесь идет о
преодолении линейной развертки
стихотворения, замену ее движением
по восходящей спирали, – то есть о
неком приближении к композиционным
принципам Донна.
-
Экспозиция «Элегии» – 96 строк-
целиком отдана перечислению
предметов, объятых сном.
-
Осмысляя свой поэтический опыт,
Бродский заметил: «Если хочешь,
чтобы стихотворение работало,
избегай прилагательных и отдавай
решительное предпочтение
существительным, даже в ущерб
глаголам. Представьте себе лист
бумаги со стихотворным текстом.
Если набросить на этот текст
волшебную кисею, которая делает
невидимыми глаголы и
прилагательные, то потом, когда ее
поднимаешь, на бумаге все равно
должно быть черно – от
существительных».
В «Большой элегии» Бродский
наиболее последовательно
реализовал этот рецепт. По
замечанию Д. Бетеа, «абсолютное
отсутствие иных глаголов, кроме
форм-дериватов: спать/уснуть» в этом
тексте создает ощущение «ноуменального
мира, сна/смерти».
При этом драматизм столь длинной и,
казалось бы, совершенно статичной
экспозиции создается за счет
внутреннего напряжения,
возникающего из столкновения
ассоциативных рядов, стоящих за тем
или иным существительным и
отстраиваемым вокруг него образом:
-
- Уснуло все. Окно. И
снег в окне.
- Соседней крыши белый
скат. Как скатерть
- ее конек. И весь
квартал во сне,
- разрезанный оконной
рамой насмерть.
-
- Это четверостишие
появляется вскоре после упоминания
о том, что «всюду ночь... в распятьи, в
простынях,/ в метле у входа». И
оконная рама – ее крестовина –
ассоциируется с распятьем, а
описываемое зимнее оцепенение есть
сон смертный, за которым не следует
Воскресение.
-
- И птицы спят. Не
слышно пенья их.
- Вороний крик не
слышен, ночь, совиный
- не слышен смех.
Простор английский тих.
- Звезда сверкает. Мышь
идет с повинной.
-
- Вороны у Бродского
ассоциируются с "суетой жизни",
ее "устроенностью" (ср.
стихотворение: «Одна ворона (их была
гурьба...»), сова же – ночная птица,
несущая зло. «Мышь, идущая с
повинной» напоминает о том, что даже
сонное оцепенение не может помешать
доносительству: подлость
оказывается даже тут выпадающей из
миропорядка, противоречащей ему.
-
- Безблагодатный,
Богооставленный пейзаж продолжает
развертываться, вширь и ввысь:
-
- Спят
ангелы. Тревожный мир забыт
- во сне святыми – к их
стыду святому.
- Геенна спит, и рай
прекрасный спит.
- Никто не выйдет в
этот час из дома.
- Господь уснул. Земля
сейчас чужда.
- Глаза не видят, слух
не внемлет боле.
- И дьявол спит. И
вместе с ним вражда
- заснула на снегу в
английском поле.
- <...>
- Спят беды все.
Страданья крепко спят.
- Пороки спят. Добро со
злом обнялось.
- Пророки спят. Белесый
снегопад
- в пространстве ищет
черных пятен малость.
-
- Так, по нарастающей,
вводится тема равнодушия –
забвения – смерти. Заметим, что
первая фраза «Большой элегии»: «Джон
Донн уснул» – своей синтаксической
законченностью провоцирует иное ее
прочтение, заложенное в сознании
любого носителя языка: «Джон Донн
почил». Д. Д.Ригсби
в своей диссертации предполагает,
что в конечном итоге этот мотив в «Большой
элегии» восходит к одному из
пассажей в предсмертной проповеди
Донна
– знаменитой «Схватке смерти, или
утешению душе, ввиду смертельной
жизни, и живой смерти нашего тела» («Death
duel, or, consolation to the soul, against the dying life, and
living death of the body»),
произнесенной им 25 февраля 1630 года в
преддверии собственной кончины: «Само
наше рождение и вхождение в эту
жизнь есть exitus a morte, исход из смерти,
ибо в утробе матерей
наших мы
воистину мертвы,
и в такой мере, что и не
знаем того, что живы,
не более, чем мы знаем это в глубоком
сне; и нет на свете ни такой тесной
могилы, ни такой смрадной темницы,
как то, чем стала бы для нас эта
утроба, задержись мы в ней долее
положенного срока или умри в ней
раньше срока».
МакФейден строит свою аргументацию
на том, что данный текст входил в
издание «The Moderm Library», подаренный
Бродскому Л.К.Чуковской. Аргумент
этот "повисает в воздухе", если
помнить, что Бродский получил книгу
лишь в 1964 г. Другое дело, что «Схватка
смерти», как правило, включается в любую
антологию, если там есть
прозаический Донн. Однако сам мотив
сон/смерть столь традиционен, что за
ним вовсе не обязательно обращаться
к проповедям настоятеля собора
святого Павла. С нашей точки зрения,
текстуальное совпадение «Большой
элегии» с предсмертной проповедью
Донна вызывает серьезные сомнения,
тогда как две другие явные цитаты из
прозы Донна, встречающиеся в
стихотворении, остались вне поле
зрения исследователей, о чем чуть
ниже.
-
Следующая часть «Элегии» – 88
строк – являются разговором Донна
со своей душой. В ночное безмолвие
врывается звук – высокая плачущая
нота, пробуждающая Донна и
заставляющая его вновь и вновь
спрашивать – кто же рыдает во тьме?
Сам Бродский говорил, что, написав
"экспозицию", он «там дошел уже
до того, что это был не просто мир, а
взгляд на мир извне... это уже
серафические области, сферы. Он <Донн>
проповедник, а значит небеса, вся
эта небесная иерархия – тоже сферы
его внимания. Тут-то я и остановился,
не зная, что делать дальше».
-
Слыша плач, герой стихотворения
спрашивает: «Кто это?»:
-
- "Кто ж там рыдает?
Ты ли, ангел мой,
- возврата ждешь под
снегом, ждешь, как лета,
- любви моей?.. Во тьме
идешь домой.
- Не ты ль кричишь во
мраке?" Нет ответа.
- <...>
- "Не ты
ли, Павел? Правда, голос твой
- уж слишком огрублен
суровой речью.
- Не ты ль поник во тьме
седой главой
- и плачешь там?" –
Но тишь летит навстречу.
- "Не та ль во тьме
прикрыла взор рука,
- которая повсюду
здесь маячит?
- Не ты ль, Господь?
Пусть мысль моя дика,
- Но слишком уж высокий
голос плачет".
-
- Вопросы задаются
"по нарастающей", адресуясь все
выше и выше, "раскручивая"
стихотворение по восходящей
спирали, вовлекая в орбиту текста
все новые и новые сферы мироздания
– покуда, наконец, не приходит ответ:
-
- "Нет, это я, твоя
душа, Джон Донн.
- Здесь я одна скорблю
в небесной выси
- о том, что создала
своим трудом
- тяжелые, как цепи,
чувства, мысли.
- Ты с этим грузом мог
вершить полет
- среди страстей, среди
грехов и выше.
- Ты птицей был и видел
свой народ
- повсюду, весь,
взлетал над скатом крыши.
- Ты видел все моря,
весь дальний край.
- И Ад ты зрел – в себе,
а после – в яви.
- Ты видел также явно
светлый Рай
- в печальнейшей – из
всех страстей – оправе.
- Ты видел: жизнь, она
как остров твой.
- И с Океаном этим ты
встречался:
- со всех сторон лишь
тьма, лишь тьма и вой.
- Ты Бога облетел и
вспять помчался.
- Но этот груз тебя не
пустит ввысь,
- откуда этот мир –
лишь сотня башен
- да ленты рек, и где,
при взгляде вниз,
- сей страшный суд
почти совсем не страшен".
-
- Д. Бетеа,
анализируя «Большую элегию»,
указывает на донновские «Обращения
к Господу в час нужды и бедствий»,
особенно – на медитации XVII – XIX,
как на источник образности
второй части стихотворения,
– исследователь исходит из двух
явных отсылок к знаменитому пассажу
из «Медитации XVII»,
взятому также Хэмингуэем эпиграфом
для романа «По ком звонит колокол»:
«Нет человека, который был бы как
Остров, сам по себе, каждый человек
есть часть Материка, часть Суши; и
если Волной снесет в море береговой
Утес, меньше станет Европа, и также,
если смоет край Мыса или разрушит
Замок твой или Друга твоего; смерть
каждого человека умаляет и меня, ибо
я един со всем Человечеством, а
потому не спрашивай никогда, по ком
звонит Колокол: он звонит по тебе» (Пер.
Е.Д. Калашниковой и Н.Д. Волжиной). (Ср.
в «Элегии»: «Здесь так светло. Не
слышен псиный лай./ И колокольный
звон почти не слышен».) Однако
интереснее привести другой
фрагмент из IV медитации, который "развернут"
Бродским на уровне двух строф
стихотворения. У Донна говорится: «Наши
создания – это наши мысли, они
родились великанами: они
простерлись с Востока до Запада, от
земли до неба, они не только вмещают
в себя Океан и все земли, они
охватывают Солнце и Небесную твердь;
нет ничего, что не вместила бы моя
мысль, нет ничего, что не могла бы
она в себя вобрать. Неизъяснимая
тайна; я, их создатель, томлюсь в
плену, я прикован к одру болезни,
тогда как любое из моих созданий, из
мыслей моих, пребывает рядом с
Солнцем, воспаряет превыше Солнца,
обгоняет Светило и пересекает путь
Солнечный, и шага одного им на то
достаточно».
«Медитации», как и «Схватка смерти»,
– неотъемлемая часть почти любой
антологии, где представлены
прозаические фрагменты Донна, и
когда Бродский говорит, что к
моменту создания «Большой элегии»
какого-то Донна он фрагментарно
знал, мы можем с уверенностью
предположить, что указанный нами
текст был ему известен.
-
Интересна еще одна аллюзия,
намечаемая в цитируемых строках.
Несомненно, "модель", которая
так или иначе присутствовала в
сознании Бродского в процессе
работы над стихотворением, – жанр
"спора души и тела", самый
известный образец которого – «Разговор
души и тела» Франсуа Вийона,
Бродскому, несомненно, знакомый. К
этому же жанру относится и «Душа и
тело» Н.Гумилева. Для Бродского,
Гумилева не любившего – в интервью
С. Волкову он прямо говорит, что с
его точки зрения «стихи Гумилева –
это не бог весть что такое»,
– творчество того могло быть очень
сильно "интенсифицировано"
общением с Ахматовой. Во всяком
случае, стихи Гумилева они
обсуждали.
В «Огненном столпе» Гумилева –
последнем его сборнике,
скомпонованном перед арестом, –
присутствует цикл из трех
стихотворений «Душа и тело». К этому
сборнику Бродский относился мягче,
чем к другим. В интервью Волкову он
замечает: «Помню довольно длинный
разговор с Ахматовой про микрокосм
Гумилева, который к моменту его
ареста и расстрела начал
стабилизироваться, становиться его
собственной мифологией. Совершенно
очевидно, что уж кто был убит не
вовремя – так это Гумилев».
В первом из стихотворений цикла «Душа
и тело» есть следующая строфа:
-
- - Безумная,
я бросила мой дом,
- К иному устремясь
великолепью.
- И мир земной мне
сделался ядром,
- К какому каторжник
прикован цепью.
-
- Тем самым, вполне
возможно, что «тяжелые, как цепи,
чувства, мысли» у Бродского в «Большой
элегии» восходят к Гумилеву. Однако
заметим, что в «Обращениях к Господу
в час нужды и бедствий» Донн
постоянно возвращается к цепям и
узам болезни, что удерживают его на
ложе, поэтому "гумилевская"
аллюзия может быть дополнительной,
но не обязательной.
-
Далее в «Большой элегии»
вводится тема даруемой бессмертием
свободы.
-
- И климат там недвижен
в той стране,
- оттуда все, как сон
больной в истоме.
- Господь оттуда –
только свет в окне
- туманной ночью в
самом дальнем доме.
- <...>
- Все, все вдали. А
здесь неясный край.
- Спокойный взгляд
скользит по дальним крышам.
- Здесь так светло. Не
слышен псиный лай.
- И колокольный звон
совсем не слышен.
- <...>
- Ну вот, я плачу, плачу,
нет пути.
- Вернуться суждено
мне в эти камни.
- Нельзя придти туда
мне во плоти.
- Лишь мертвой суждено
взлететь туда мне.
- <...>
- Не я рыдаю – плачешь
ты, Джон Донн.
- Лежишь один, и спит в
шкафах посуда,
- покуда снег летит на
спящий дом,
- покуда снег летит во
тьму оттуда".
-
- Происходит возврат
к началу стихотворения, низвержение
из серафических сфер на землю,
пространство вновь сжимается до
комнаты – точнее – до тела спящего
(?) поэта. Но из этой "начальной
точки", обогащенной множеством
смыслов, происходит новая развертка
– третья часть стихотворения.
Причем если начиналась «Элегия»
фразой «Джон Донн уснул», то эта
третья часть вводится словами: «Подобье
птиц, он спит в своем гнезде».
Упоминание птицы становится здесь
сквозным рефреном, трижды появляясь
в начале очередной строфы: «Подобье
птиц, душа его чиста»; «Подобье птиц,
и он проснется днем,» – поэтическая
мысль движется по спирали,
перебирает схожие/параллельные
варианты, чтобы – еще раз
отшатнувшись к началу
стихотворения – можно было, наконец,
выговорить главное:
-
- Уснуло
все. Но ждут еще конца
- два-три стиха. И
скалят рот щербато,
- что светская любовь
– лишь долг певца,
- духовная любовь –
лишь плоть аббата.
- На чье бы колесо сих
вод ни лить,
- оно все тот же хлеб на
свете мелет.
- И если можно с кем-то
жизнь делить,
- то кто же с нами нашу
смерть разделит?
- Дыра в сей ткани. Всяк,
кто хочет, рвет.
- Со всех концов. Уйдет.
Вернется снова.
- Еще рывок! И только
небосвод
- во мраке иногда берет
иглу портного.
- Спи, спи, Джон Донн.
Усни, себя не мучь.
- Кафтан дыряв, дыряв.
Висит уныло.
- Того гляди, и
выглянет из туч
- звезда, что столько
лет твой мир хранила.
-
- «Дыра в ткани» –
несомненная аллюзия на "существованья
ткань сквозную" – переживание
онтологической пустоты,
Богооставленности. У Бродского этот
мотив "метафизического
похмелья" повторяется из текста в
текст, обретая предельную ясность в
«Разговоре с небожителем», где
вслед за воплем к Богу
проговаривается:
-
-
<...> И, кажется, уже
-
не помню толком
-
-
о чем с тобой
- витийствовал –
верней, с одной из кукол,
- пересекающих
полночный купол.
-
Теперь отбой,
-
и невдомек,
- зачем так много
черного на белом?
- Гортань исходит
грифелем и мелом
-
- В более позднем
стихотворении – не эхом ли «Большой
элегии» отзываясь, – мотив ткани
появляется в сходном значении:
-
- Дни расплетают
тряпочку, сотканную Тобою.
- И она скукоживается
под рукою.
-
- Однако нас более
интересует другое – появление в
конце стихотворения «висящего
уныло кафтана» производит
впечатление неожиданности и
нарочитости. В перечислениях первой
части фигурировал не кафтан, а
камзол. Можно, конечно, поставить
между ними знак равенства – а
соответственно, уравнять Англию – и
Россию, утверждая вслед за этим, что
Бродский в последних строках
отождествляет себя с Донном:
интерпретация возможная – но
слишком "лобовая". Однако некое
интонационное "автоподчеркивание"
в этой строке присутствует. И
связано оно, скорее, с тем, что
призвано выделить отсылку – все к
тому же Донну. В «Молитве VI» из «Обращений
к Господу...» встречается следующий
пассаж: «И коль будет угодно Тебе
распорядиться телом моим, этим
одеянием ветхим, так, что оставишь
его мне и дальше стану носить его в
мире сем, или же совлечешь его с меня
и уберешь в общий шкаф – в могилу,
где пребывать ему, покуда не придет
мир новый, – да
послужит выбор Твой ко славе Твоей,
и да облечешь Ты тело мое славою,
которую Спаситель наш, Иисус
Христос, стяжал для тех, кого
соделаешь Ты имеющими долю в
Воскресении Его».
Молитвы из «Обращений», в отличие от
медитаций, редко печатаются в
антологиях, – поэтому вопрос, как
мог Бродский знать этот текст,
остается открытым, однако само наше
наблюдение о сознательном
параллелизме двух текстов
представляется обоснованным –
у Донна выстроена цепочка "тело
– одеяние – шкаф – могила",
присутствующая и в «Большой элегии»:
«спят... шкафы, стекло, часы...» – «нельзя
придти туда мне во плоти» – «забыв
тебя, мой свет,/ в сырой земле, забыв
на век, на муку...».
-
Д. Бетеа, со ссылкой на К.Л.Кляйна,
указывает на еще ряд донновских
текстов как возможных источников
образности «Большой элегии»: «О
слезах при разлуке» (Valediction: forbidding
weeping) – это стихотворение Бродский
переводил, поэмы «Плач Иеремии» (Lamentations
of Jeremy) и «Странствие души» (The progress of
the soul) и «Священные сонеты» (The Holy Sonnets)
III и VII.
Однако, с нашей точки зрения,
оправдана лишь аллюзия на «Священный
сонет VII» – все прочие тексты
соотнесены с «Большой элегией» лишь
по тому признаку, что они написаны
Донном и в них упомянут плач. Что
касается «Священного сонета», то
позволим себе привести его целиком,
ибо параллели, действительно,
прослеживаются:
-
- At the round
earth imagin'd corners, blow
- Your trumpets, Angells, and arise,
arise
- From death, your numberlesse infinities
- Of soules, and to you scattered bodies
goe.
- All whom the flood did, and fire shall
o'erthrow,
- All whom warre, dearth, age, agues,
tyrannies,
- Despaire, Law, chance, hath slaine, and
whose eyes,
- Shall behold God, and never test death
woe.
- But let me sleep, Lord, and me mourne a
space,
- For, if above all these, my sinnes
abound,
- 'Tis late to aske abundance of thy
grace,
- When we are there; here on this lovely
ground,
- Teach me how to repent; for that's as
good
- As if thou'hadst seal my pardon, with
my blood.
-
- В переводе Д.Щедровицкого
сонет звучит следующим образом:
-
- С углов земли, хотя
она кругла,
- Трубите, ангелы!
Восстань, восстань
- Из мертвых, душ
неисчислимый стан!
- Спешите, души, в
прежние тела! -
- Кто утонул и кто
сгорел дотла,
- Кого война, суд, голод,
мор или тиран
- Иль страх убил... Кто
Богом осиян,
- Кого вовек не скроет
смерти мгла!...
- Пусть спят они. Мне ж
горше всех рыдать
- Дай, Боже, над моей
виной кромешной:
- Там поздно уповать на благодать...
- Благоволи ж меня в
сей жизни грешной
- Раскаянью всечасно
поучать:
- Ведь кровь Твоя –
прощения печать!
-
- У Донна к Судному
дню трубят Ангелы, у Бродского в «Элегии»
– архангел Гавриил:
-
- ... "Не ты ли,
Гавриил,
- подул в трубу, а кто-то
громко лает?
- Но что ж лишь я один
глаза открыл,
- а всадники уже коней
седлают".
-
- Мотивы сокрушения
и рыдания у Донна и Бродского также
абсолютно параллельны.
-
Как мы видим, стихотворение
Бродского прошито донновскими
реминисценциями и построено с
учетом принципов, почерпнутых
Бродским у Донна: текст развивается
по спирали метафор вокруг одного
сквозного образа
"сон/смерть", – чтобы в
конце вернуться к исходной точке на
ином смысловом уровне. Этот
композиционный прием, практически у
раннего Бродского (до 1963 г.) не
встречающийся, для периода 1963 – 1972
гг. (т.е. до отъезда из России)
типичен.
-
Заметим, что несомненным
параллельным текстом к «Большой
элегии Джону Донну» является «Прощальная
ода». В «Оде», построенной как вопль
к Богу – молитва о потерянной
возлюбленной, – разрабатывается
тот же круг мотивов: заснеженное
пространство, в котором затерян
поэт, сон как подобие смерти, птичий
полет как прорыв в высшие сферы.
Сквозной метафорой для «Оды» служит
схождение во Ад: Орфея за Эвридикой
и Данте – во имя Беатриче.
- То, что «Ода»
проникнута влиянием Донна, не
вызывает никаких сомнений: в 19-й
строфе стихотворения содержится
четкая отсылка к тому же пассажу из
«Медитации XVII», который мы уже
упоминали выше:
-
- Кончено.
Смерть! Отлив! Вспять уползает лента!
- Пена в сером песке
сохнет – быстрей чем жалость!
- Что
же я? Берег пустой? Черный край
континента?
- Боже,
нет! Материк! Дном под ним
продолжаюсь!
- Только трудно дышать.
Зыблется свет неверный.
- Вместо неба и птиц –
море и рыб беззубье.
- Давит сверху вода –
словно ответ безмерный –
- и убыстряет бег
сердца к ядру: в безумье.
-
-
Ряд образов «Оды» перекликается
с «Большой элегией» на еще более
тонком плане. Так, если в «Элегии»
было сказано: «Господь оттуда –
только свет в окне/ туманной ночью в
самом дальнем доме», то в «Прощальной
оде»: «Бог глядит
из небес, словно изба на отшибе:/
будто к нему пройти можно по дну
оврага…» Как и «Большая элегия», «Прощальная
ода» стремится к "спиральной"
композиции. В первой строфе
задается пейзаж:
-
- Ночь встает на колени
перед лесной стеною.
- Ищет ключи слепые в
связке своей несметной.
- Птицы твои родные
громко кричат надо мною.
- Карр! Чивичи-ли карр!
– словно напев посмертный.
-
- Заканчивается же
стихотворение тем, что поэт сам
превращается в птицу, взмывает над
своим горем – но платой за то
становится дар членораздельной
речи:
-
- Карр!
чивичи-ли-карр! Карр, чивичи-ли...
струи
- снега ли... карр, чиви...
Карр, чивичи-ли... ветер...
- Карр, чивичи-ли, карр
Карр, чивичи-ли... фьюи...
- Карр, чивичи-ли, карр.
Карр... Чечевицу видел?
-
- Упоминание здесь
чечевицы отсылает читателя к
библейской истории Иакова и Исава,
продавшего свое первородство за
чечевичную похлебку: «Исаак любил
Исава, потому что дичь его была по
вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И
сварил Иаков кушанье; а Исав пришел
с поля усталый. И сказал Исав Иакову:
дай мне поесть красного, красного
этого, ибо я устал. От сего дано ему
прозвание: Едом. Но Иаков сказал [Исаву]:
продай мне теперь же свое
первородство. Исав сказал: вот, я
умираю, что мне в этом первородстве?
Иаков сказал [ему]: поклянись мне
теперь же. Он поклялся ему, и продал [Исав]
первородство свое Иакову. И дал
Иаков Исаву хлеба и кушанья из
чечевицы; и он ел и пил, и встал и
пошел; и пренебрег Исав
первородство (Быт. 25, 28 – 34)». Заметим,
что эта отсылка увязывает «Большую
элегию Джону Донну», «Прощальную
оду» и "библейскую" поэму «Исаак
и Авраам» в единый цикл,
объединенный метафизической
проблематикой.
-
- В «Исааке и Аврааме»
мы сталкиваемся со сквозной
метафорой, разрабатываемой на
протяжении всей поэмы,
оборачивающейся новыми и новыми
гранями, – то есть c типичным "conceit"
поэтов-метафизиков. Однако Бродский
радикально перерабатывает этот
прием: если
у Донна conceit служил основой
сравнительно короткого – как
правило, менее 30 строк –
стихотворения (серьезными
исключениями стоит признать лишь
два стихотворных послания: «Шторм»
– кстати, Бродским переведенный, –
и «Штиль»), то Бродский создает
вокруг сквозной метафоры
протяженные вещи, балансирующие на
грани стихотворения и поэмы. Л.Лосев
в своей статье «Политика/Поэтика» в
качестве примера таких построений
подробно анализирует «Письмо в
бутылке» (1964), отмечая, что в этом
стихотворении «развернутая
метафора (conceit) проходит через весь
текст и служит основой для
разработки самого сюжета... Однако
этот сюжет, в свою очередь, образует
лишь "рамку" вокруг основного
содержания стихотворения –
прощания с миром».
-
Использование Бродским «донновских»
геометрических метафор в другом «прощальном»
стихотворении –
«Пенье без музыки» (1970) –
рассматривает М.Крепс в своей
монографии «О поэзии Иосифа
Бродского».
-
Давая подробный разбор «Пенья
без музыки», М. Крепс при этом
проходит мимо "донновского"
контекста, в котором функционирует
это стихотворение.
-
«Пенье без музыки» датировано
1970 годом. К этому периоду относится
интенсивная работа Бродского над
переводами из Донна и метафизиков
для планируемого Аникстом тома,
более того, – четыре из этих
переводов вошли в изданную в том же
году в Нью-Йорке «Остановку в
пустыне» – первый сборник
Бродского, в компоновке
которого поэт сам принимал
участие. Для нас важен в данном
случае не только тот факт, что в
момент работы над «Пеньем без
музыки» Донн актуально
присутствовал в сознании Бродского,
но и то, что переводы из Донна не
могли не быть так или иначе известны
адресату Бродского, к которому
обращено стихотворение.
-
«Пенье без музыки» построено
как прощальная речь, обращенная
поэтом к возлюбленной. Таким
образом, мы имеем дело с жанром «Valediction»
– «Прощания», хорошо знакомым
Бродскому по работе над Донном: им
выполнены переводы двух его
прощальных стихотворений – «A
Valediction: Forbidding Mouring» («Прощанье,
запрещающее грусть») и «A Valediction: On
Weeping» («О слезах при разлуке»).
-
В «Пенье без музыки» мы имеем
дело со своеобразной транспозицией
донновского текста. Приведем начало
стихотворения:
-
- Когда ты
вспомнишь обо мне
- в краю чужом – хоть
эта фраза
- всего лишь вымысел, а
не
- пророчество, о чем для
глаза,
-
- вооруженного слезой,
- не может быть и речи:
даты
- из омута такой лесой
- не вытащишь – итак,
когда ты
-
- за тридевять земель и за
- морями, в форме эпилога
- (хоть повторяю, что слеза,
- за исключением былого,
-
- все уменьшает) обо мне
- вспомянешь все-таки в
то Лето
- Господне и вздохнешь
– о не
- вздыхай! – обозревая это
-
- количество морей, полей,
- разбросанных меж нами, ты не
- заметишь, что толпу
нулей
- возглавила сама. В
гордыне
-
- твоей иль в слепоте
моей
- все дело, или в том,
что рано
- об этом говорить, но
ей-
- же Богу, мне сегодня
странно,
-
- что, будучи кругом в
долгу,
- поскольку ограждал
так плохо
- тебя от худших бед, могу
- от этого избавить вздоха.
-
- Синтаксис текста
не позволил нам сократить цитату.
Обратим пристальное внимание на
выделенные нами курсивом фрагменты
– и сравним их с образностью
донновского стихотворения «О
слезах при разлуке» в переводе
Бродского:
-
- Дай
слезы мне
- Лить пред тобой, пока еще мы рядом.
- И каждую чекань
печальным взглядом:
- Клейменые и ценятся
вдвойне.
- <...>
-
- Из
пустоты
- Чеканщик создает подобье мира,
- На круглый шар с искусством ювелира
- Трех континентов нанося черты.
- Вот так же в
каждой
- Слезе твоей я сталкиваюсь с жаждой
- стать целым миром – с обликом твоим;
- <...>
-
- Сродни
Луне
- О не
усугубляй приливов горя!
- Не научай своим
объятьям моря
- И так неравнодушного
ко мне.
- Тоской своею
- Не подавай дурной
пример Борею,
- Чтоб не вздымался,
яростен и лих.
- Жестока вздохов глубина твоих.
- Как воздух
нам один отпущен на двоих.
-
- Параллелизм – но
параллелизм зеркальный! – этих
текстов очевиден. У Донна слезы
проливаются возлюбленными во время
прощания, разлука еще лишь грозит им:
«Дай слезы мне/ Лить пред тобой, пока
еще мы рядом,» – у Бродского
влюбленные уже разделены, оторваны
друг от друга навсегда: «Когда ты
вспомнишь обо мне/ в краю чужом...»
Между ними пролегает вся
безмерность пространства: «за
тридевять земель и за/ морями» –
однако пространство это можно
охватить взглядом: если представить
географическую карту: «обозревая.../
количество морей, полей,/
разбросанных меж нами» – то есть,
представив тот самый донновский
глобус, на который «чеканщик... с
искусством ювелира... нанес черты». Герой Донна умоляет возлюбленную
не вздыхать. У Бродского поэт может
«от этого избавить вздоха»
возлюбленную – как от вздоха,
ничего не меняющего и ненужного.
Бесповоротность ситуации
многократно подчеркнута аллюзией
на донновский текст. Стихотворение
Донна служит Бродскому
своеобразным резонатором, усиливая
трагизм, – ибо так, как у Донна, уже
быть не может!
-
И появление дальше "геометрического"
мотива связано именно с этим
приемом:
-
-
... возьми
- перо и чистый лист
бумаги
-
- и перпендикуляр
стоймя
- восставь, как небесам
опору,
- меж нашими с тобой двумя
- - да, точками: ведь мы в ту пору
-
- уменьшимся и там, Бог
весть,
- невидимые друг для
друга,
- почтем еще с тобой за честь
- слыть точками: итак, разлука
-
- есть проведение прямой,
- и жаждущая встречи
пара
- любовников – твой
взгляд и мой -
- к вершине
перпендикуляра
-
- поднимется, не
отыскав
- убежища, помимо горних
- высот, до ломоты в висках;
- и это ли не
треугольник!
-
- Перед нами
трагическая инверсия донновского «Прощанья,
запрещающего грусть», с его
знаменитым "геометрическим"
сравнением возлюбленных с ножками
циркуля, причем
отсылка жестко подчеркнута –
строка «меж нашими с тобой двумя»
дает возможность иного продолжения:
жизнями, душами, провоцируя
ассоциацию-воспоминание – «Простимся.
Ибо мы – одно./ Двух наших душ не
расчленить,/ Как слиток драгоценный.
Но/ Отъезд мой их растянет в нить», –
ассоциацию, ернически уничтожаемую
всем дальнейшим развертыванием
стихотворения. Не донновская
окружность, где:
-
- ... Те будет озирать
края,
- Не двигаясь твоя душа
- Где движется душа моя..
-
- – но прямая,
делающая немыслимым всякое
возвращение «с моих кругов туда,
откуда я пускался в путь», разрыв, не
оставляющий возлюбленным иного «убежища/
помимо горних/высот».
-
Мы видим, что «Пенье без музыки»
нельзя верно понять, не учитывая
того, что контекстом для него
являются два донновских «Прощания»:
«О слезах при разлуке» и «Прощанье,
запрещающее печаль» (вся "геометрия"
«Пения» вырастает из донновского
образа циркуля).
-
Что касается "рациональности",
"рассудочности" этих
геометрических метафор у Бродского,
то он сам дал им – в том же «Пенье
без музыки» – очень четкое
определение: «схоластика/ и в прятки
с горем/ лишенная примет стыда/ игра».
Собственно говоря, мы имеем дело с
определенного типа риторикой,
названной А. Жолковским «витиеватым
красноречием Бродского»,
– риторикой жестко и логично
структурированной, нужной поэту,
чтобы, как сказано в стихотворении «Загадка
ангелу", «боль топить,/
захлестывать моторной речью».
"Заговариваются" любовь,
отчаянье, разлука, одиночество,
смерть:
-
- Любовь
сильней разлуки, но разлука
- длинней любви. Чем
старее гранит,
- тем явственней
отсутствие ланит
- и прочего. Плюс
запаха и звука.
-
-
"Рациональность",
риторичность: «любовь сильней
разлуки, но разлука/ длинней любви»,
– всего лишь уравновешивает
лихорадочную
гиперболизированность эмоций,
тоски по возлюбленной, страсти – то,
что создает у Бродского «сильных
чувств динозавра/ и кириллицы смесь»
(«Строфы»).
-
Таким образом, связь поэтик
Донна и Бродского далеко выходит за
рамки проблемы перевода. О
пресловутом "ученичестве"
Бродского по отношению к Донну
следует говорить не столько в связи
со строфикой или использованием
conceits, сколько в связи со сменой
композиционных принципов
организации текста. Развертывание
сквозной метафоры, обрастающей
отступлениями и структурирующей
воронкообразную композицию текста,
было отличительной особенностью
поэтики Донна, выделявшей его среди
современников, и именно этот
композиционный прием, усвоенный
Бродским в 1962/3 гг., надолго
определил его поэтику. При этом
источником аллюзий для Бродского
проза Донна служила не в меньшей
степени, чем стихи, а чтение Донна и
работа над переводами его стихов
служили импульсами для создания
собственных текстов Бродского.
Помимо композиционных приемов,
общим для Бродского и Донна
оказывается принцип отношения
текста (стихотворения) и контекста (культурных
топосов эпохи):
вне контекстуальных аллюзий смысл
текста остается недопонятым,
ускользает, искажается. И именно
совпадение исходных характеристик
двух поэтик сделало Бродского и
адекватным переводчиком поэзии
Донна на русский язык, и тем, чья
роль столь точно передается
английским словом “champion”
в его старом, связанном еще с
рыцарской эпохой значении, –
представителем, воином, выходящим
на турнир в честь сюзерена.