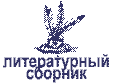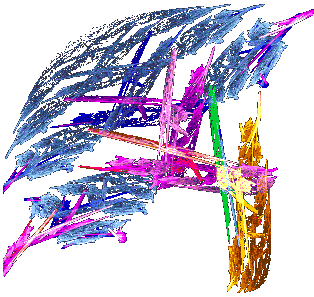 |
А.Нестеров О
структуре цикла И.Бродского
Памяти
флейтиста Александра Воронина,
|
|
|
|
||
|
Для поэзии Бродского весьма характерно, что часто она есть продолжение чужой поэтической речи[1]. Многие стихи Бродского начинаются «с затакта». Подразумеваемого, но не указанного. Так, «Элегия на смерть Т.С. Элиота» следует оденовскому стихотворению «Памяти У.Б.Йейтса», «1 сентября 1939 г.» вторит одноименному стихотворению Джона Берримена[2] – и примеры эти можно множить и множить.
Вертинский в ту пору вновь стал звучать в России[5] – на какое-то время после своего возвращения на родину он попал в число чуждых, но дозировано-дозволенных «советскому человеку» авторов, став своего рода ниточкой, связующей две эпохи. Его романсы и песенки провоцировали странную смесь иронии и ностальгии, являясь символом чего-то большего, чем они сами. О популярности Вертинского говорит хотя бы то, что в 1952 и 1953 гг. ему дали выступить в одном из самых крупных залов Москвы – в «России».
Но, чтобы увидеть эту точку отсчета именно так, необходимо обратиться ко всему циклу «Июльское интермеццо», в который вошло «Воротишься на родину...» В полном виде цикл публикуется весьма поздно – едва ли не двадцать лет спустя после его написания. В предисловии к «Остановке в пустыни» о нем упомянуто как об «Августовском интермеццо»[7]. В «Остановку...» же включены лишь два стихотворения: «Воротишься на родину...»[8] (четвертое в цикле) и «Проплывают облака» (заключительное, десятое стихотворение)[9]. Внутри сборника эти тексты подчинены особому ритму восприятия, заданному для всей книги, напоминающей своим планом целостное архитектурное сооружение, – их разделяет более дюжины других стихов. В сборнике «Стихотворения и поэмы» 1965 года[10], составлявшемся без всякой редактуры Бродского, из «Интермеццо» присутствуют те же два стихотворения и «Романс», причем и здесь – без всякого указания на их принадлежность к некому единству. Но в 1961 году, когда было написано «Интермеццо», Бродский экспериментировал с большими формами. В течении этого года создаются или дорабатываются «Петербургский роман», «Гость», «Шествие». Фактически, все три вещи – попытка воплотить «современную» поэму. Для них характерен если не сквозной сюжет, то сквозная драматургия. Очевидно, к этому же кругу текстов следует отнести и «Июльское интермеццо». Если обратиться к самому циклу, мы обнаружим, что его ядро, части с 4 по 8, составляют тексты, «прошитые» музыкальными ассоциациями, начиная от заглавий: «Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона» (пятое стихотворение цикла), «Романс» (шестое), «Современная песня» (седьмое), «Июльское интермеццо»(восьмое). Заметим, что характерным образом во втором стихотворении цикла – «Люби проездом родину друзей» – упоминается вальс, а в десятом – «Проплывают облака» – детское пение. При этом очевидно некое заданное чередование «современных» музыкальных жанров: джазовая пьеса, «современная песня» и жанров, тяготеющих если не к «классике», то, во всяком случае, к эпохе ушедшей, и в первую очередь – к рубежу веков: «романс» и «интермеццо». «Ключ» к подобной структуре дан в «Пьесе с двумя паузами для сакс-баритона». Сакс-баритон – не столько обозначение инструмента – тот был бы баритон-саксофон, – сколько определение некого голоса: помесь баритона с саксом, способного пропеть, проговорить, выговорить жизнь, сохраняя соответствующую высоту и тембровку. (Из всех упоминаемых в стихотворении джазовых музыкантов[11] лишь Джерри Маллиган играл на баритон-саксофоне. Остальные: Диззи Гиллеспи – труба, Джордж Ширинг – фортепьяно, Эрролл Гарнер – фортепьяно, Телониус Монк – фортепьяно. Существует совместная запись Монка и Маллигана, сделанная в 1957 году: «Mulligan meets Monk»[12].) С голосом же, вокалом связаны и «романс», и «песня». Вспомним, что в авторской ремарке, предваряющей «Шествие», Бродский уточняет смысл, вкладываемый им в понятие романс: «Романс – здесь понятие условное, по существу – монолог. Романсы рассчитаны на произнесение – и на произнесение с максимальной экспрессией. <...> Романсы, кроме того, должны произносится высокими голосами: нижний предел – нежелательный – баритон, верхний – идеальный – альт»[13]. Больше того, отчетливый привкус мелодекламации – жанра, любимого, опять же, в начале века, – слышится и в заключающем «Интермеццо» тексте – «Проплывают облака...». Фактически, все развитие сюжета внутри цикла «подзвучено» «музыкой, доносящейся из окон», которая играет роль и фона существования – некой предметной вещности мира, втягиваемой в поэтический текст, – и ассоциативного ряда. И «музыкальная упорядоченность» «Интермеццо» провоцирует на поиск соответствующих ассоциаций для остальных стихов. Заметим, что четным стихотворениям соответствуют музыкальные формы, тяготеющие к началу века. Пропуск третьего, нечетного, и, смеем предположить, в силу указанного ритма – «современного» текста (пусть существующего только номинально – как «пропущенная» строфа в «Евгении Онегине»), – лишь еще одно доказательство небесполезности этого занятия. Напрямую заявленной «музыкальной рамки» в названии и явных «музыкальных отсылок» в тексте не имеют «Письмо на Юг» и «Августовские любовники». Отметим, что само название – «Августовские любовники» – звучит осознанным диссонансом к названию цикла – «Июльское интермеццо». Это стихотворение локализовано как бы за хронологическими пределами всего цикла, очерченными названием. Облаченные в красные рубашки тени любовников, вечно возвращающихся «на новый круг», уже за пределами этой страсти, скользят сквозь призрачный город, город посмертия, который – лишь раскрашенный призрак бытия, морок. Жизнь вне любви, жизнь-в-смерти. (Ту же процессию призраков встретим мы и в «Шествии», со звучащей в его финале темой вечного возвращения на мучительно-бессмысленный круг существования.) В утешение же читателю «Интермеццо» остается омытая печалью воспаряющая ввысь кода – «Проплывают облака...» Интересно, что обостренное внимание к нумерологическим построениям, задающим всю организацию текста, оказывается характерной чертой не только «Июльского интермеццо», но, в первую очередь, тех поэм Бродского, где ему уже удалось найти адекватную форму для «больших вещей» (циклы и поэмы 1961 года: «Гость», «Три главы», «Петербургский роман», «Шествие» и анализируемое нами «Интермеццо», – следует, все же, считать лишь «подступами к большой форме»). Так, в «Исааке и Аврааме» важную структурообразующую роль играют числа «четыре» и «восемь»: значительный фрагмент поэмы посвящен интерпретации графического образа четырехбуквенного слова «куст»[14], вокруг которого формируется образ Неопалимой Купины – тернового куста, горящего не сгорая, в котором Господь явился Моисею, – а само это слово становится отражением Тетраграмматона, Имени Господня. А настойчивое повторение в поэме цифры «8» – причем в виде графического значка, соотносимого с символом бесконечности, – вполне вероятно, восходит к каббалистической традиции, где эта цифра соотносится с восьмой сефирой дерева Сефирот, – Хесед, «Славой»[15]. О том, что форма поэмы «Горбунов и Горчаков» в первую очередь была предопределена избранной для поэмы формой стиха: «того, что я называю децимой, с чередующейся рифмой ABABABABAB. В каждой строке десять слогов, в каждой строфе десять строк, в каждой части десять строф. Я использовал это в поэме <…>, чтобы передать умонастроение персонажей», – отмечал сам Бродский в интервью Анн-Мари Брамм[16]. Как мы видим, изучение композиционно-нумерологических структур в поэзии Бродского, одним из примеров которых может служить строение цикла «Июльское интермеццо», открывает весьма интересные перспективы. [1] См. Бродский И. «Европейский воздух над Россией», интервью Анни Эпельбаум/ И.Бродский. Большая книга интервью. Сост. В.Полухина. Второе, исправленное издание. М., 2000. С. 130 – 153; Куллэ В. «Там, где они кончили, ты начинаешь...» (О переводах Иосифа Бродского)/ Russian Literature XXXVII (1995). P. 267 – 288. [2] О своем отношении к поэзии Д.Берримена в целом Бродский упоминает в интервью Анн-Мари Брамм, данном в 1974 г. (См. Бродский И. Муза в изгании/ И.Бродский. Большая книга интервью. Сост. В.Полухина. Второе, исправленное издание. М., 2000. С. 23.). О том, что «1 сентября 1939 года» Бродского в первую очередь «отсылает» читателя к одноименному стихотворению Берримена, а не У.Х.Одена (заметим, что оденовскому тексту у Бродского посвящена большая статья: Бродский И. «1 сентября 1939 года» У.Х.Одена/ Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб, 1999. С. 215 – 255), свидетельствует несомненный параллелизм некоторых мотивов в первых строфах двух текстов. Ср. у Бродского: «День назывался “первым сентября”./ Детишки шли, поскольку – осень, в школу./ А немцы открывали полосатый/ шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,/ Как ногтем – шоколадную фольгу,/ разгладили улан…». У Берримена же: «The first, scattering rain on the Polish cities./ That afternoon a man squat’ on the shore/ Tearing a square of shining cellophane./ Some easily, some in evident torment tore,/ Some for a time resisted, and then burst./ All this dependent on fidelity…» В обоих случаях мы сталкиваемся с мотивом блестящего, упругого материала, уступающего внешней силе. При этом отметим, что у Берримена в стихотворении настойчиво присутствует мотив детских голосов, который – в измененном виде – отзывается у Бродского: «Снова на ветру/ шумят березы, и листва ложится,/ как на оброненную конфедератку,/ на кровлю дома, где детей не слышно.» [3] Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1. СПб, 1992. С. 323. [4] Представленный, заметим, на одной из его пластинок, изданных в те годы фирмой «Мелодия». [5] Ср. в воспоминаниях Анатолия Пикача о ленинградской поэзии конца 50-ых – начала 60-ых гг.: «привязчиво звучал в те дни впервые услышанный Вертинский». (А.Пикач. «И от чего мы больше далеки?..»/НЛО, № 14, 1996. [6] См. Нестеров А. Джон Донн и формирование поэтики Бродского: за пределами «Большой элегии»/ Иосиф Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. СПб: изд-во журнала «Звезда», 2000. С. 151 – 171. [7] Н.Н. Заметки для памяти/ Бродский И. Остановка в пустыне.New York, 1970. P. 13. [8] Бродский И. Остановка в пустыне.New York, 1970. P. 27. [9] Бродский И. Остановка в пустыне.New York, 1970. P. 70 – 71. [10] Бродский И. Стихотворения и поэмы. New York, 1965. [11] О передаче «Time for Jazz» по «Голосу Америки» Бродский упоминает в эссе «Трофейное.» См. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 4. СПб, 1995. С. 187. [12] Указанием на эту пластинку мы обязаны покойному Александру Воронину. [13] Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1. СПб, 1992. С. 95. [14] Укажем, среди некоторых влияний, следы которых ощутимы в поэме, «Четыре квартета» Т.С.Элиота и графические эксперименты э.э.каммингса. Об своем интересе к поэзии э.э.каммингса Бродский, в частности, говорил в интервью со С.Биркертсом: См. «Звезда», 1997, № 1: «Иосиф Бродский. Неизданное в России». С. 83. [15] См.: Кравцов М.А. Комментарии и примечания/ Шимон, раби. Фрагменты из книги «Зогар». М.: «Гнозис», 1994. С. 258 – 271; Шреур-Залман из Ляды. Ликутей Амарим. Вильнюс: «Гешарим», 1990. С. 383 – 387; Штейнзальц А. Творящее слово. М.: «Институт изучения иудаизма в СНГ», 1996. С. 148 – 157. [16] Бродский И. Муза в изгании/ И.Бродский. Большая книга интервью. Сост. В.Полухина. Второе, исправленное издание. М., 2000. С.34. (Опубликовано:
Развитие средств массовой
коммуникации и проблемы культуры. |
||
|
niw 07.01.2005 |
||